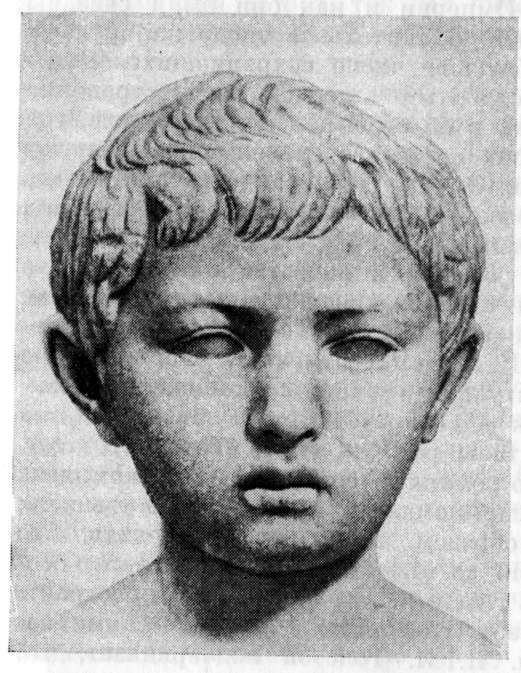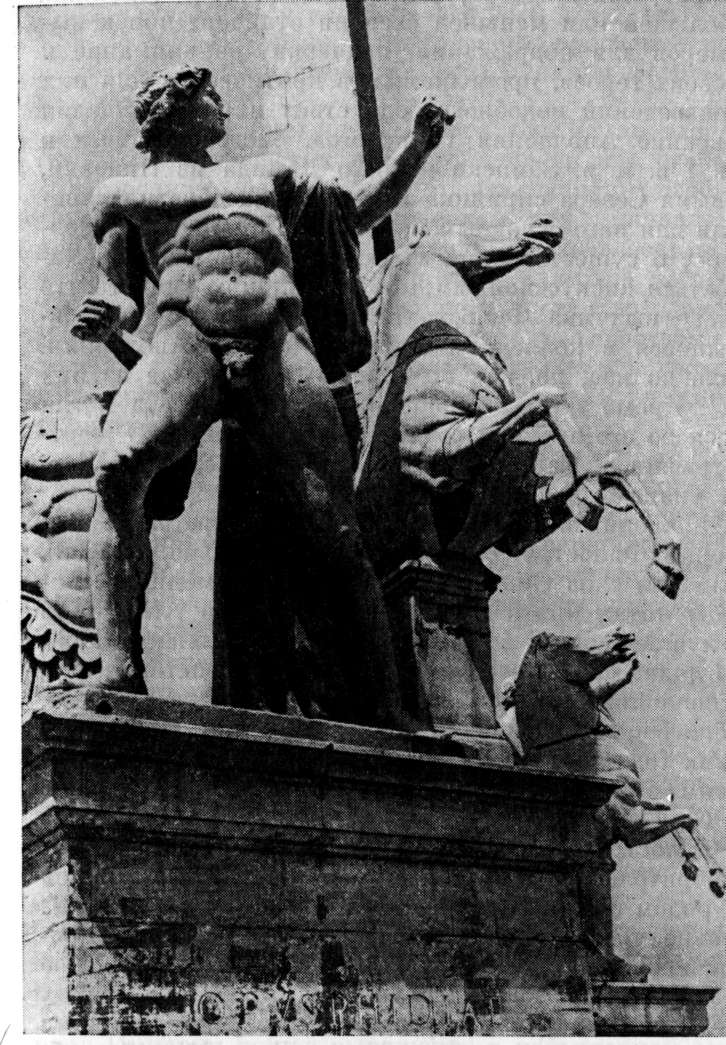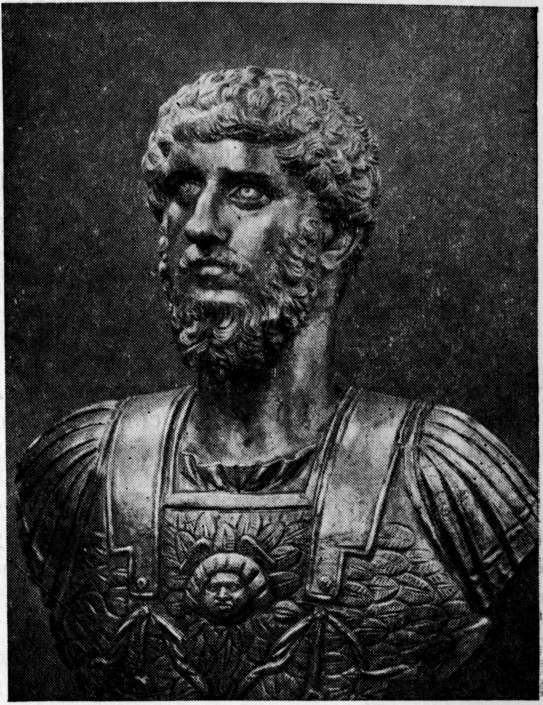|
| 79 |
Глава вторая
ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ НИЗОВ В АНТИЧНЫХ РОМАНАХ
Во Введении к первому тому «Культуры древнего Рима» уже упоминалась проблема «массовой культуры» в Римской империи. Правомерно ли применять данный термин, возникший на основании анализа ряда явлений современной западной культуры, к обществу, базировавшемуся на иных основах, с иной социально-экономической структурой, располагавшему неизмеримо меньшими возможностями для распространения информации, идей, творений писателей, поэтов, художников? Думается, что в определенном смысле, с соответственными оговорками, мы все же можем говорить о «массовой культуре» в Римской империи, как можем, также условно, говорить об отчуждении — явлении, тесно связанном с «массовой культурой».
В эпоху становления и расцвета римской гражданской общины ни то, ни другое явление не существовало и существовать не могло. При известных различиях в идеологии разных социальных слоев все граждане ориентировались на некие основные коллективные ценности, определявшие их жизненную позицию и их мировоззрение. В главе первого тома «От гражданина к подданному» уже говорилось и о «римском мифе», и о добродетелях, считавшихся необходимыми для гражданина, и о причастности каждого гражданина ко всем сторонам жизни коллектива — как воина, как участника народного собрания, как почитателя римских богов, вместе с остальными согражданами отправлявшего их культ. Формировавшаяся на подобных основах культура воспринималась как органическая часть общественного бытия.
При Империи, с превращением «гражданина» в «подданного», возникает чувство отчуждения от распавшегося на многие иерархические слои общества и от коллективной жизни, поскольку исчезли и общие цели. Все более резким становится разрыв между идеологией господствующих и эксплуатируемых классов: последние все сильнее подвергаются идеологическому нажиму. При этом официальная пропаганда императоров сочеталась с учениями и идеями, рождавшимися в кругах образо-
|
|
| |
| 80 |
ванной элиты и доходящими до масс в форме, доступной для широкой публики. Она знакомилась с ними из книг, имевших широкое распространение [Авл Геллий, например (XI, 4), сообщает, что в Брундизии он накупил много дешевых книжонок, содержащих чудесные и невероятные истории], из публичных чтений в библиотеках и банях, из собиравших толпы слушателей выступлений ораторов, из речей бродячих философов на площадях, из надписей на статуях императоров и видных деятелей общеимперского и городского масштаба, из чеканившихся на монетах лозунгов, из молитв жрецов за императора, сенат и народ, которыми начинались и завершались все священнодействия.
Все это так или иначе формировало сознание жителей Римской империи. Так складывалась и распространялась «массовая культура» с присущими ей характерными чертами. Она использовала, приспосабливала к обстоятельствам традиционные ценности римской гражданской общины, «римский миф», сочетавшийся теперь с мифами об императорах, избранниках богов, несших народам «золотой век» и «вечное обновление». «Непобедимый император», исполненный добродетелей, и «вечный Рим» были основой официальной идеологии. Император представал в качестве блюстителя «общей пользы», защитника «маленьких людей» от сильных и могущественных, что отражалось в императорских эдиктах, в ответах на жалобы крестьян, в прошениях людей, обращенных к начальству, в которых подчеркивалась их скромная бедность, дававшая им право на защиту. Излюбленной темой риторических упражнений было противопоставление благородного бедняка порочному богачу. В эпитафиях, часто в заслугу покойному ставилась его бедность. В арсенале социальной демагогии постоянно присутствовала мысль о счастливой жизни бедного и простого человека, и несчастной жизни вечно дрожавшего за свое имущество и положение богатого и знатного.
Прославление бедности отражало и другую сторону «массовой культуры»—ее компенсаторность. Любой житель империи, от раба до сенатора, остро ощущал свою зависимость от вышестоящих лиц, что противоречило идее свободы и независимости, прежде пронизывающей сознание гражданина полиса и римской civitas. Философы искали выход из этого противоречия. Их учения находили благоприятную почву в среде простых людей, утешавшихся тем, что они добродетельнее и духовно выше «тирана» и господина, а следовательно, более свободны, чем он, по крайней мере внутренне; мысленно они отождествляли себя с теми, кто, хотя бы в книгах, решался все это высказать угнетателю, например персидскому царю или сатрапу, под которыми читатель волен был подразумевать кого угодно. Обличение богачей и царей не вызывало возражений императоров. Вместе с тем возвеличивание и прославление бедности внушали мысль, что достоинство можно сохранить в любых условиях, а значит, незачем изменять внешние обстоятельства, так как счастье и свобода требуют только внутреннего самоусовершенствования.
Компенсаторность «массовой культуры» сказывалась и в ее ориентации на уход от регламентированной, скучной повседневности. Это проявлялось в почти болезненной тяге к чудесному, исключительному, не-
|
|
| |
| 81 |
обычному. Отсюда — популярность грандиозных и кровопролитных зрелищ (травля зверей, морские сражения, бои гладиаторов, среди которых иногда выступали и женщины, казни на аренах цирков). Отсюда и все более пышные религиозные празднества, например трехдневный праздник смерти и воскресения Аттиса, начинавшийся глубоким трауром и кончавшийся веселыми оргиями в честь Великой матери богов Кибелы. Отсюда повышенный интерес к рассказам о призраках, оборотнях, воскрешениях мертвецов, о вмешательстве богов в жизнь людей в далеких неведомых странах, где могло случиться самое невероятное, об откровениях, снах и видениях, к рассказам об исключительных людях, отличавшихся необычайной красотой, благородством, талантами, о боговдохновенных мудрецах Индии, Эфиопии, Персии, которым якобы открыты тайны мироздания.
Особенности «массовой культуры» приходилось учитывать каждому автору, рассчитывавшему на успех, будь то компилятор, собиравший сведения о древних обычаях, культурах, законах, изречениях знаменитых людей и анекдоты о них (Плутарх, Авл Геллий, Афиней), или грамматик, толковавший сочинения греческих и римских «классиков» и значения терминов, или автор кратких занимательных рассказов о животных (Элиан) и о людях разных времен и сословий, или преподаватель риторики, готовивший учеников к публичным выступлениям с неожиданным и оригинальным поворотом темы (например, речь Диона Хризостома с доказательством того, что Троянской войны никогда не было). Но, пожалуй, наиболее ярким проявлением «массовой культуры» времен Империи был греческий и латинский роман, пользовавшийся всеобщей популярностью.
Античный роман зародился еще в эллинистическую эпоху, но особенно широкое распространение получил в период Империи, что свидетельствует об общественной потребности в беллетристике такого рода. Дошедшие до нас либо целиком, либо в сокращенном виде, а большей частью — в отрывках, греческие и латинские романы рассчитаны были на массового читателя — от императора и его ближайшего окружения до мелкого ремесленника и лавочника. Сюжеты некоторых из греческих романов настолько схожи, что нередко исследователи даже говорят об определенной схеме, но которой они строились: неожиданно вспыхнувшая любовь «с первого взгляда» молодой пары героев, их побег из родного города, разлука, вызванная внешними обстоятельствами, испытания и приключения, выпавшие на их долю (попадание в плен к разбойникам, восточным тиранам и т. п.), которые герои поодиночке успешно преодолевают, чтобы в результате счастливого стечения обстоятельств вновь воссоединиться и отпраздновать свадьбу. Следует, однако, заметить, что многие романы не соответствуют этой сюжетной схеме (например, «История Александра» Псевдо-Каллисфена, «Письма» Хиона Гераклейского, «Чудеса по ту сторону Фулы» Антония Диогена и др.). Кроме того, новонайденные папирусные фрагменты романов свидетельствуют о том, что единого, канонического типа романов не существовало. Скорее напротив — диапазон беллетристики в период Империи был достаточно
|
|
| |
| 82 |

широк: это и любовно-приключенческие повести, и истории о чудесах и привидениях, и романы-жития, и комические, и сатирические романы. Но поскольку из большого числа произведений до нас дошло сравнительно немного, классификация античных романов, основанная на условных критериях, представляется весьма относительной.
Наиболее известные из дошедших до нас греческих романов периода Империи датируются следующим образом: повесть «О Херее и Каллирое» Харитона (I в.), «Эфесская повесть» Ксенофонта Эфесского (начало II в.), «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия (середина II в.), «Дафнис и Хлоя» Лонга (конец II в.), «Эфиопика» Гелиодора (первая четверть III в.), «Жизнеописание Аполлония Тианского» Филострата (начало III в.); латинский роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» датируется II в., а роман Петрония «Сатирикон» — I в.
Греческие романы полны рассказов об опасных путешествиях в экзотические земли, многочисленных описаний чудес, с их персонажами происходят удивительные события. Герои этих романов, как правило, принадлежат к именитым фамилиям, но при неблагоприятном повороте судьбы могут оказаться в положении рабов.
Действие романа Харитона начинается в Сиракузах. Молодые герои, Херей и Каллироя, отличающиеся необыкновенной красотой, встретившись на празднике Афродиты, влюбляются друг в друга и сочетаются законным браком. Однако богиня подвергает влюбленных тяжким испытаниям. Страдающий от ревности Херей ударяет жену, та теряет сознание, и все считают ее умершей. Но разбойники, намеревавшиеся ограбить гробницу, обнаруживают, что Каллироя жива, и похищают ее, а затем продают в рабство богачу из Милета Дионисию. Уступая настойчивым
|
|
| |
| 83 |
просьбам Дионисия, Каллироя дает согласие на брак с ним. Между тем Херей, узнав об исчезновении жены, отправляется на ее поиски, попадает в плен, а затем в рабство к персидскому сатрапу Митридату. В руках Дионисия оказывается любовное послание Херея Каллирое, однако, полагая, что он погиб, Дионисий считает, что письмо написано Митридатом и подает на пего жалобу царю Артаксерксу. Ход судебного разбирательства нарушает неожиданное появление Херея. Митридат оправдан, но Артаксеркс, плененный красотой Каллирои, медлит с вынесением окончательного решения в пользу Херея. Тем временем персидское войско выступает в поход против восставших египтян. Херей, неудовлетворенный результатами суда, принимает сторону восставших, сражается против персов и захватывает в плен жену Артаксеркса Статиру. Роман завершается долгожданной встречей Херея и Каллирои и их возвращением на родину.
В романе Ксенофонта Эфесского юноша Габроком, не признававший власти всемогущего Эрота, наказан божеством. Увидев в процессии в честь богини-покровительницы города Артемиды Эфесской прекрасную девушку Антию, Габроком влюбляется в нее. Оба они заболевают от любви, и родители, обратившиеся к оракулу Аполлона, получают предсказание о том, что на их долю выпадет немало испытаний и бед, но в конце концов они обретут счастье. Корабль, на котором отправились в путешествие молодожены, терпит крушение, герои попадают в плен к пиратам и в разлуке претерпевают ряд злоключений. В Антию влюбляется Перилай, разгромивший со своим отрядом пиратов и спасший героиню романа от неминуемой смерти (она предназначалась в жертву божеству-покровителю разбойников Аресу). Антия не знает, что Габрокому также удалось избежать смерти и что он находится неподалеку вместе с предводителем разбойников Гиппотоем. Антии удается избежать домогательств Перилая, но затем она вторично попадает к разбойникам, которые продают ее в Александрии индийскому царьку Псаммиду; но пути в Индию Псаммида убивают сообщники «благородного разбойника» Гиппотоя. Между тем Габроком в одиночку пытается отыскать Антию, однако в Египте попадает в рабство и из-за ложного обвинения со стороны отвергнутой им жены господина приговаривается к смерти υ а кресте, но чудесным образом спасается. По приказанию префекта Египта шайка Гиппотоя разбита на этот раз Полиидом, жена которого, приревновав мужа к Антии, велит переправить ее в Италию и продать своднику. После долгих скитаний Габроком попадает в Италию, где встречает Антию, несмотря на все перипетии сохранившую целомудрие, и женившегося на богатой старухе Гиппотоя.
Героиня романа Ахилла Татия Левкиппа, в которую влюблен Клитофонт, убегает с ним из родительского дома в Александрию; по пути они попадают к разбойникам, освобождаются из плена, однако в Александрии Левкиппу похищает влюбившийся в нее разбойник Херей. Преследуя похитителя, Клитофонт становится очевидцем смерти Левкиппы (оказавшейся мнимой) и горько оплакивает ее. Молодая богатая вдова Мелита Убеждает Клитофонта отправиться с нею в Эфес, чтобы отпраздновать
|
|
| |
| 84 |
там их свадьбу. По прибытии в Эфес выясняется, что Левкиппа жива и жив считавшийся погибшим муж Мелиты Ферсандр. За нарушение брачного закона Клитофонта заключают в тюрьму, Левкиппе грозит участь стать наложницей Ферсандра. На судебном процессе Ферсандр обвиняет жену в измене, требует смерти Клитофонта и возвращения по закону рабыни Левкиппы, однако благодаря покровительствующему ей божеству доказывается невиновность Левкиппы, и козни Ферсандра не достигают цели. Роман завершается счастливым браком Левкиппы и Клитофонта.
Герои романа Гелиодора Теаген и Хариклея попадают из Дельф в Эфиопию, считавшуюся у древних самой южной частью мира и, следовательно, страной солнечного божества Гелиоса. Эфиопия в изображении Гелиодора — процветающая счастливая страна, где правит благой царь Гидасп со своими советниками-гимнософистами и где почитают культ Солнца. В эпоху Гелиодора Гелиос, почитаемый в Эфиопии, был тождествен Аполлону, почитаемому в Дельфах. Культ Солнца, повышенный интерес к мудрости гимнософистов, обитавших на Востоке, религиозные верования и магические обряды «варваров» характеризуют время написания романа. В завершающей роман фразе Гелиодор говорит, что он финикиец из Эмесы и происходит из рода солнечного божества Гелиоса. Известно, что в Эмесе существовал храм Гелиоса, а Гелиогабал, будущий император, был его жрецом. Пропаганда культа Солнца была особенно распространена при Северах, что послужило косвенным подтверждением для датировки романа Гелиодора первой четвертью III в. н. э.1 Таким образом, роман соотносится хронологически с сочинением Флавия Филострата о чудотворце Аполлонии Тианском. Оба эти романа, появившиеся в период распространения христианства, отличает от остальных известных нам греческих образцов то, что в них преимущественное внимание обращено не на любовную тематику (у Филострата она вообще отсутствует), а на морально-религиозные сюжеты и идеи.
Любовная чета романа Гелиодора, напоминающая мучеников греческих житий святых, противопоставляет преследующей их злой судьбе нерушимую верность и добродетель. Герои попадают в плен к разбойникам нильской дельты, они встречают странствующего жреца аскета Каласирида, отца благородного предводителя разбойников Тиамида, оказываются пленниками Арсаки, жены персидского сатрапа Египта, влюбившейся в Теагена. В конце романа царь эфиопов Гидасп узнает в Хариклее свою пропавшую дочь и согласно воле народа отменяет грозящее ей кровавое жертвоприношение, а Теагена посвящает в сан жреца Аполлона.
Часть греческих романов дошла до нас в пересказах византийских авторов. Например, константинопольскому патриарху IX в. Фотию принадлежат пересказы греческих романов «Вавилонская повесть» Ямвлиха, «Чудеса по ту сторону Фулы» Антония Диогена и ряд других сочи-
1 Большинство исследователей датируют это сочинение III в. Ср., однако, датировки Вайнраха (II в.), Кейдела (вторая половина IV в.); против III в. возражает Сепеши.
|
|
| |
| 85 |

нений. Некоторые романы сохранились в папирусных отрывках. Среди них следует упомянуть опубликованные А. Хенриксом новонайденные фрагменты греческого романа Лоллиана «Финикийская история» (II в. н. э.). Кёльнский папирус (P. Colon, inv. 3328) содержит фрагменты романа, по которым можно судить о его содержании. Рассказ ведется от первого лица, по-видимому, героя романа, который находится в плену У разбойников. Один из разбойников приносит в жертву ребенка. Фрагменты Кёльнского папируса, как полагает издатель, связаны с текстом Р. Оху. XI, 1368. В этом отрывке говорится о том, что некоему Главкету, путешествующему верхом, является призрак юноши, который просит похоронить его в одной могиле с убитой девушкой, лежащей под платаном на обочине дороги. Ночью Главкет подъезжает к заброшенному сараю и видит призрак направляющейся к нему женщины. На этом фрагмент обрывается.
|
|
| |
| 86 |
В греческих романах при всех их различиях между собой, очевидно стремление их авторов уйти от изображения реальности в вымышленный мир экзотики, что, по всей видимости, импонировало воображению «массового» читателя. Ко II в. возобладали религиозные увлечения, но не официальной религией, тесно связанной с культом императоров и служащей упрочению государственности, а полузапретными иноземными культами; обнаружился повышенный интерес людей ко всему курьезному, необычному, вплоть до веры в существование духов и привидений. Лукиан едко иронизировал над этими явлениями. Пародируя в «Правдивых историях» широко распространенные сочинения авторов об удивительных приключениях, Лукиан заставляет своего героя совершить космическое путешествие на Луну и Солнце, где живут загадочные существа, беседовать с богами и героями далекого прошлого.
К I в. π. э. относится и латинский роман «Сатирикон», автора которого исследователи обычно склонны отождествлять с упоминаемым в «Анналах» Тацита (XVI, 19) Гаем Петронием. По свидетельству Тацита, Петроний, проконсул Вифинии, входивший в узкий круг приближенных Нерона, слыл при дворе высшим авторитетом в вопросах вкуса (arbiter elegantiae). Это было время, когда, по словам Плиния Младшего, «рабская угодливость сделала опасным всякое чуть-чуть свободное и смелое исследование» (Ер., III, 15). По доносу Петроний был осужден за связь с одним из участников заговора Пизона и, избрав добровольную смерть, покончил с собой, вскрыв вены. В предсмертном письме, отосланном Нерону, он, в отличие от большинства осужденных, не льстил принцепсу, а обличал его оргии.
Роман Петрония сохранился в отрывках — с середины 14-й и до середины 16-й книги — вероятно, объем этого произведения был достаточно велик. По форме роман представляет собой смесь прозы и стихов, что было характерно для так называемой менипповой сатиры, а его содержание составляет сатирическое изображение быта и нравов римского общества I в. н. э.2 В дошедшей до нас части говорится о похождениях неразлучной пары — вольноотпущенника Энколпия, от лица которого ведется рассказ, и сопровождающего его юного красавчика Гитона, любви которого он добивается (эти герои, возможно, пародируют любовную чету греческих романов). Время от времени к ним присоединяются другие персонажи: бродяга Аскилт, от которого Энколпию с трудом удается избавиться, затем странствующий поэт-неудачник Евмолп, который рассказывает ставшую популярной в новое время новеллу об Эфесской матроне. Злоключения Энколпия вызваны гневом божества плодородия Приапа, однако, из-за чего Приап преследует его, понять трудно.
2 Папирусные фрагменты греческого «Романа об Иолае» (P. Оху. XLII, 3010), опубликованные в 1974 г. П. Парсонсом, повествуют о посвящении Иолая в мистерии культа Кибелы, изобилуют эротикой, смешанной с мистикой, вульгаризмами и носят откровенно пародийно-сатирический характер. Однако датировка папируса II в. н. э. не позволяет заключить, что обнаружен греческий прототип «Сатирикона», написанного намного раньше.
|
|
| |
| 87 |
Герои романа скитаются по городам Южной Италии и существуют, как правило, за счет тех, кого им удается обмануть; местом действия избраны трущобы, постоялые дворы, бани, наводненный мошенниками рынок, где герои Петрония сталкиваются с социальными типами из самых различных слоев общества — среди них алчные охотники за наследством, искательницы любовных приключений, авантюристы, пьяницы. Волею случая герои попадают на обед к разбогатевшему отпущеннику Тримальхиону, чье самодурство и невежество обрисованы Петронием с убийственным сарказмом. В период Ранней империи, несмотря на ограничительные меры со стороны властей, значительно увеличилось число отпущенных на волю рабов. Многие из отпущенников преуспевали и оказывались в глазах привилегированных сословий объектом насмешек и ядовитой критики. Естественно, не всем из них везло в жизни, пример чему — тот же Энколпий, странствующий по городам в поисках удачи и денег. Тем не менее источники нередко упоминают отпущенников, расположения которых вынуждены были добиваться сенаторы. Случалось, что бывшие рабы накапливали состояния, и довольно большие. Особенную неприязнь и ненависть вызывали императорские отпущенники, занимавшие видные посты в бюрократическом аппарате и пользовавшиеся огромным политическим влиянием.
Петроний знакомит читателей с таким богачом из бывших рабов. Угодничеством и унижениями добившийся расположения своего господина, Тримальхион сколотил огромное состояние, сохранив при этом все качества, традиционно в литературе приписываемые рабам: лживость, корысть, подобострастие, подлость. Бессмысленная роскошь и безвкусица, окружающие Тримальхиона, поражают даже много повидавшего Энколпия и в то же время позволяют бывшему рабу с высокомерием патрона относиться к окружающим. В сложных отношениях зависимости и подчинения в Ранней империи патроном иногда оказывался бывший раб, власть которого основывалась на деньгах, а клиентами — свободнорожденные квириты, не столь преуспевшие в жизни.
Богатство Тримальхиона не обойдено вниманием городских властей: муниципальный совет избрал его заочно севиром-августалом (71, 12), и в качестве символа этого достоинства ему были вручены «ликторские пучки прутьев с топорами», которыми Тримальхион украсил входные двери триклиния (30, 1—2). Дарование магистратом достоинства севира-августала было официальным признанием растущей роли слоя преуспевающих отпущенников в империи. Средства севиров-августалов, которые были в городах жрецами и членами коллегий почитателей культа Гения императора, шли на отправление официального императорского культа, и, естественно, авторитет севиров-августалов измерялся степенью почитания культа. Обладая фасцами (символ власти), Тримальхион, наподобие императора, правил в собственном доме, представляющем собой своего рода империю в миниатюре. Его многочисленная фамилия, включающая родственников, отпущенников-слуг и рабов, разделена на курии (ср.: «Ты из какой декурии? — Из сороковой»), находящиеся под контролем эдилов, издающих декреты (53, 9). Его письмоводитель зачитывает отчет
|
|
| |
| 88 |
о событиях и распоряжениях в доме, будто это «столичные известия» сообщают о событиях мирового значения: «За семь дней до календ секстилия в поместье Тримальхиона, что близ Кум, родилось мальчиков тридцать...» (53, 1). Тримальхион утверждает указ о ссылке домоправителя в Байи, точно сам император верховной властью отдает распоряжение относительно какого-нибудь провинившегося сенатора (53, 10). Прибит на крест раб Тримальхиона за непочтительное слово о Гении своего господина (53, 3), словно бранным словом был помянут Гений или Нумен императора. Одновременно с провозглашенной на пиру у Тримальхиона здравицей в честь императора гости целуют портрет Тримальхиона, и никто из них не смеет отказаться (60). Очевидно, организационно и идеологически отпущенники вроде Тримальхиона были тесно связаны с правящим режимом.
Тримальхион «мог бы украсить собой любую декурию Рима, но не пожелал» (71, 12): памятуя о своем отпущенническом статусе, он остается в кругу людей близкой ему социальной среды и не стремится порвать с ними — в основном это такие же, как и он, преуспевающие отпущенники низкого происхождения, владельцы поместий, рабы и, возможно, клиенты. Доблести, заслуживающие внимания ближайшего окружения Тримальхиона, сводятся к одному — к умению извлекать наживу и проявлять деловую сметку. Любимая поговорка Тримальхиона: «Асс у тебя есть, и цена тебе асс» (77, 6)—в сжатой форме выражает социальное самочувствие людей этой среды, мастерски обрисованных Петронием.
Пиру Тримальхиона, одному из самых знаменитых описаний в античной литературе, посвящены десятки комментариев. Стоит, однако, остановиться на том, о чем говорили между собой собравшиеся за обедом люди. Римский обед, на котором, кроме патрона и почетных гостей, присутствовали и клиенты, длился порой не менее восьми часов, поэтому, естественно, тем для разговоров возникало множество. В эпоху Империи любили рассказывать о невероятных явлениях, причем не только в среде простолюдинов и выскочек, вроде Тримальхиона, но и в кругу образованнейших сановников. «За обедом со всех сторон говорили о разных чудесах»,—пишет Плиний Младший (Ep., IX, 33). Но если интеллектуал Плиний, по собственному признанию, «ничем так не интересовался, как творениями природы» (VIII, 20), то людей «попроще» увлекали рассказы о суевериях, магии и т. п.
В латинских романах по-своему переосмыслялся жанр симпосиона, или застольных бесед, традиционный для греческой литературы классического периода и эпохи эллинизма, который предполагал диалоги на высокие морально-философские темы (классический пример тому — «Пир» Платона). У Петрония и Апулея темы застольных бесед не только заземлены — здесь откровенно подчеркивается вера слушателей в информацию необычного рода: в рассказы «очевидцев» о ведьмах и оборотнях, колдунах и прочие поражающие воображение истории.
Тяга ко всему необычному, свойственная умонастроениям населения Римской империи, в полной мере нашла свое отражение в романе Апулея.
|
|
| |
| 89 |
Апулей, уроженец города Мадавра в римской провинции Африка, был современником Лукиана, платоником, автором сочинений по естественной истории (не сохранились) и философии («Об учении Платона», «О демоне Сократа» и др.). В своей «Апологии» Апулей открыто признавался в том, что посвящен во многие мистерии. Славе колдуна и мага Апулей обязан прежде всего написанному им на латинском языке роману «Метаморфозы», более известному под названием «Золотой осел». В романе говорится о злоключениях молодого человека но имени Луций. Движимый любознательностью и страстью ко всему необычному, он спешит проверить на себе действие волшебной мази, с помощью которой колдунья Памфила на его глазах превратилась в сову. Но из-за оплошности своей любовницы, служанки Фотиды, Луций волею случая превращается не в птицу, а в осла. Чтобы вновь стать человеком, Луцию достаточно отведать лепестков свежих роз, однако в ту же ночь напавшие на дом разбойники похищают осла вместе с остальным имуществом. Проходит около года, прежде чем Луцию, претерпевшему многочисленные лишения у разных хозяев, удается попробовать лепестки роз из рук жреца Исиды и вновь обрести человеческий облик.
Источником для романа послужила греческая повесть «Лукий, или Осел» неизвестного автора, рассказывавшая об удивительных похождениях некоего Лукия в образе осла. Апулей переработал эту «греческую басню на милетский манер» и расцветил основной сюжет романа вставными новеллами и эпизодами, большая часть которых посвящена магической тематике, будь то рассказ Аристомена о том, как ведьма-кабатчица Мероя зарезала ночью своего сожителя Сократа, вложив ему вместо сердца губку, или полный суеверного ужаса рассказ Телефрона о том, как, нанявшись сторожить покойника, он лишился собственных ушей и носа, потому что ведьма перепутала его с усопшим, или повествование о меняющем свой облик .драконе, пожирающем незадачливых путников. Однако заключительная, XI книга, в которой говорится о чудесном обратном превращении Луция, отличается от предыдущих книг романа. Все происшедшее с Луцием и призванное позабавить читателя, истолковывается в XI, «серьезной» книге в свете религиозно-философской концепции, связанной с мистериями Исиды. После посвящения Луция в мистерии Исиды его жизнь, представлявшая собой до этого цепь злоключений, оказывается под покровительством божества.
В романе нашли отражение многочисленные черты современной Апулею действительности, преломленные то в комическо-бытовом плане, как, например, эротические истории, то в возвышенно-благородном — например, новелла о смерти трех сыновей, вступившихся за притесняемого богачом бедняка-землевладельца (IX, 33—38). Личина осла дала возможности Луцию столкнуться с представителями различных слоев римского общества, а Апулею — сатирически изобразить этих представителей. Отзвук очень популярных во II в. речей риторов и декламаторов слышен и в романе Апулея с той лишь разницей, что в романе пародируется, Доводится порой до абсурда манера риторов витиевато распространяться о простом. Тем большим успехом должна была пользоваться у читате-
|
|
| |
| 90 |
лей эта манера автора, так как читатели имели возможность непосредственно сталкиваться с образцами речей, которые пародировались Апулеем.
Среди новелл романа особое место занимает получившая широкую известность в мировой литературе сказка об Амуре и Психее, фантастическая история о любви сына Венеры и земной девушки. В сказке, напоминающей по сюжету греческий роман, говорится о браке юной красавицы с таинственным мужем, который навещает ее по ночам и запрещает смотреть на себя при свете дня, о том, как затем коварные сестры подговаривают ее нарушить запрет мужа, после чего тот исчезает, о долгих и мучительных поисках пропавшего супруга, оказавшегося прекрасным юношей, и наконец, о счастливом их бракосочетании на небесах.
Несмотря на общую возвышенную интонацию, сказку пронизывает мягкий юмор. Так, Юпитер сетует на то, что из-за Амура ему не раз приходилось нарушать Юлиев закон о прелюбодеянии, а обращение к совету богов он начинает словами «Отцы-сенаторы!». Венера всеми силами противится браку сына с земной девушкой и при этом ссылается на пункты римского права.
Герой «Метаморфоз» в самом начале заявляет, что «едет по делам в Фессалию», но никаких дел от него читатель так и не дождется. Еще до того, как он превращается в осла, целыми днями, «как праздный бездельник», слоняется он по городу в поисках приключений, связанных с магическими превращениями: «И вообще-то я человек беспокойный и неумеренно жадный до всего редкостного и удивительного, а теперь при мысли, что я нахожусь в сердце Фессалии, единогласно прославленной во всем мире как родина магического искусства... я с любопытством оглядывал все вокруг, возбужденный желанием, связанным с нетерпением» (II, 1). Собственно, трудиться Луций начинает, превратившись в осла, и, что называется, на собственной шкуре испытывает и рабский труд, вращая вместе с четырьмя рабами жернова мельницы, и крестьянские заботы, которые он делит с бедным земледельцем, перевозя тяжелые камни с поля. Апулей вводит читателя в гущу повседневных забот маленьких людей, нелегким трудом добывающих средства для жизни, среди которых свободные и рабы, крестьяне и мелкий городской люд — ремесленники, кабатчики, мельники, торговцы, а также люди сомнительных занятий — сводники, авантюристы, разбойники. По сравнению с греческими романами латинские романы Апулея и Петрония гораздо полнее отражают повседневную действительность, мелкие бытовые подробности и социальные отношения периода Ранней империи.
Достаточно подробно исследованы литературоведческие аспекты античного романа (вопрос о происхождении, жанровая специфика) 3. Вместе с тем почти не уделялось внимания тому, как романы воспринима-
3 Среди исследований исключительно большую роль, несмотря на ряд ошибочных положений, сыграла работа Роде «Греческий роман и его предшественники» (Rohde Ε. Der griechische Roman und seine Vorläufer. Leipzig, 1876). Позднейшие исследования Лаваньини, Людвиковского, Керсньи, Меркельбаха, Перри и др. внесли исправления в хронологию и теорию античного романа; была выявлена и проанализирована связь романов с предшествующими им мифологической, исторической и риторической традициями. Широкий круг литературоведческих проблем, связанных с изучением античного романа, был предметом рассмотрения в работах отечественных исследователей (А. В. Болдырев, А. Егунов, А. И. Доватур, Г. Г. Козлова, О. М. Фрейденберг, С. В. Полякова, Μ. М. Бахтин и др.). Результаты многолетнего изучения античных романов нашли отражение в сборнике статей «Античный роман» (М., 1969), намечавшем одновременно пути дальнейшего исследования.
|
|
| |
| 91 |
лись в римском обществе периода Империи и как они были связаны с породившей их эпохой и идеологией. Значительное число папирусных текстов, дошедших до нас, и еще большее число сохранившихся фрагментов позволяют с уверенностью говорить о широком распространении греческих романов в период Империи и об огромной популярности этой литературы в низших и средних слоях не только грекоязычных городов восточных провинций, но и в Италии. Это дает основание рассматривать греческие романы как источник, позволяющий судить о мировоззрении и общественной психологии социальных низов Римской империи.
На возможность использования романов в качестве источника для выявления идеологии и социальной психологии различных слоев римского общества периода Империи указывал И. И. Толстой в статье, посвященной роману Харитона4. И. И. Толстой отмечает, что, несмотря на условный характер героев и ситуаций греческих романов, переживания персонажей находили отклик в сердцах широких читателей, на которых в основном и были рассчитаны романы. И. И. Толстой пишет, что в низовых слоях герои греческого романа и связанный с ним комплекс представлений, этических норм воспринимались иначе, чем в высших слоях. Материал романов, таким образом, позволяет определить, что волновало преимущественно читателя из низовых и средних слоев: особый интерес должны были вызывать у него не умозрительные и абстрактные представления, а вопросы морали, связанные с практическими заботами и повседневными нуждами. И. И. Толстой подчеркивает, что историческая важность античного романа заключается в том, что на этом источнике прослеживаются изменения в сознании различных, и прежде всего низовых, слоев Римской империи, отобразившаяся в романе идеология и настроения, идущие вразрез с традиционными для античного общества принципами, новое воззрение на человека, согласно которому моральная ценность личности не зависит от ее социального статуса.
Греческие романы в высшей степени отвечали психологии подданных империи, особенно ее социально ущемленных низовых слоев, в большей мере, чем другие, испытавших на себе давление чиновничьего аппарата, произвол господ, в чьем подчинении они находились, лишенных общественных гарантий вплоть до вполне реальной возможности быть подвергнутым не только политическому или экономическому насилию, но даже физическому. Этому широкому читателю, идентифицировавшему себя
4 Толстой И. И. Повесть Харитона как особый литературный жанр поздней античности.— В кн.: Харитон. Повесть о любви Херея и Каллирои. Μ.; Л., 1959, с. 157— 172.
|
|
| |
| 92 |
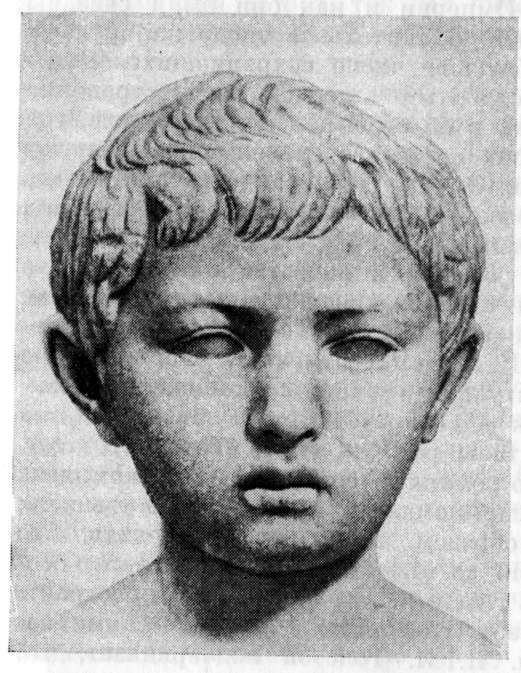
с героями романов, на жизненном пути которых судьба возводила непреодолимые преграды и которые с благородным мужеством и покорным терпением переносили страдания, адресовались греческие романы. Но особенно отвечало психологии низового читателя то, что в необычных ситуациях герои романов, несмотря на зависимость или кабалу, в которую они попадали, активно отстаивали свою духовную свободу. Таким образом, в романах нашла отражение проблема свободы воли, и прежде всего вопрос о достойном поведении человека в неблагоприятных внешних обстоятельствах.
Превращение свободного в раба — ситуация, часто повторяющаяся в греческом романе (герой или героиня попадают в плен к разбойникам, героиню выставляют на продажу и ее покупает сводник, героя продают в рабство восточному тирану и т. п.). Примечательно, что хотя превращение свободного в раба означало попрание человеческого достоинства, идеальный герой греческого романа (само воплощение добродетели и достоинства) является перед глазами читателей в рабском обличии: так, героине романа Ксенофонта Эфесского Антии обрезают косу, что позорило свободнорожденную женщину и ставило ее наравне с гетерой, надевают оковы и с сопровождающим отправляют в Италию, чтобы там продать ее содержателю публичных женщин. А вот как описано появление Левкиппы-рабыни, героини романа Ахилла Татия: «Внезапно к нашим ногам бросается женщина с остриженной головой, с оковами на ногах, с мотыгой в руках, грязная, в подпоясанном нищенском хитоне» (5, 27, 3).
Антию разбойники помещают в яму с псами. Габроком работает в нукерийских каменоломнях. В этих эпизодах герои, будучи свободнорожденными и находясь в рабском положении, подвергаются унизительным оскорблениям и побоям, иногда пыткам, носят рубища, цепи и кандалы, но при этом они сохраняют присутствие духа. Перенося мученические испытания, они противостоят произволу — источнику морального зла и смело высказывают своим угнетателям все, что о них думают, тем самым сохраняя свою внутреннюю свободу и достоинство. Можно поработить тело героя, но нельзя лишить его духовной свободы — этот вывод должен был найти сочувственный отклик у читателей романов.
|
|
| |
| 93 |
Свободнорожденный герой, хотя и пребывает в силу необходимости в рабском состоянии, никогда не ведет себя, подобно рабу. В критической ситуации, когда приходится делать выбор между добром и злом, он остается верен себе, и его поведение, таким образом, отвечает нормам свободного человека (в эпиктетовском смысле) с его понятиями о чести. «Если бы тебе,— обращается Левкиппа к своему господину,— вздумалось поступать по отношению ко мне как тирану, то по необходимости я должна была бы подчиниться тебе, но ты не в состоянии заставить меня по моей воле подчиняться тебе» (Ach. Tat., 6, 20). Поведение, уподобляющее свободного человека рабу, представляется героям романа невозможным и заслуживает осуждения: «Ты поступаешь не так, как человек свободного и благородного происхождения. Ты действуешь так же, как раб Сосфен. Раб достоин своего господина» (Ach. Tat., 6, 18).
Свободнорожденный в положении раба отчуждаем не только от гражданских, но и всяких прав: не выслушав оправданий оклеветанного Габрокома (поскольку его слово не имеет силы), римский наместник в Египте, как одного из многих бесправных подданных, предает его позорной смерти на кресте. Однако в последний момент Габроком, помолившись Гелиосу, чудесным образом спасается — крест, на котором он распят, падает с крутизны в Нил. Когда же его вслед за этим возводят на костер, воды Нила тушат пламя (Xen. Eph., 4, 2). Здесь, как и в других аналогичных ситуациях, обнаруживает себя основополагающий (не формальный, а идейный) принцип греческих романов, отрицающих реальный мир с его жесткой иерархией и регламентацией и отвергающих обычное ради экзотического и таинственного. Чудесное спасение Габрокома должно было импонировать мироощущению социально бесправного человека, лишенного возможности каким-либо образом предотвратить грубое насилие общепринятым «законным» путем.
Духовная свобода идеальных героев романа настолько велика, что ее не может ущемить или принизить никакое физическое насилие: «Начинайте же пытки! Несите колесо! Вытягивайте руки! Несите и плети — вот спина — бейте! ...Невиданное доселе сражение представится вашим глазам: одна женщина против всех пыток, и она победит!.. Одно лишь у меня оружие — свобода, и вам не выбить ее из меня плетьми, не вырезать железом, не выжечь огнем. Никогда я не откажусь от нее. Если даже начнешь жечь меня, то убедишься, что огонь недостаточно горяч для нее» (Ach. Tat., 6, 21—22). Или: «Я раб, но я верен клятвам. Эти варвары имеют власть над моим телом, но душа моя осталась свободной» (Ach. Tat., 2, 4).
Внимание широких читателей — городских ремесленников, крестьян, мелких торговцев — приковывала переменчивая судьба героев и выказываемая ими в затруднительных обстоятельствах стойкость духа. Герои ради сохранения человеческого достоинства готовы на самопожертвование, вплоть до принятия мученической смерти — и этот идеал, основанный на представлении о предоставленных всем и каждому равных возможностях и согласующийся со стоической идеей о том, что достижение счастья для каждого человека, независимо от того, богат он или беден,
|
|
| |
| 94 |
свободный или раб, невозможно без проявленной им свободной воли, находил распространение в низах римского общества.
То, что в реальной действительности мыслилось возможным, но практически неосуществимым, в романе становилось «должным», а именно: высказать своему «тирану» (управляющему, господину, начальнику канцелярии, римскому наместнику и т. п.) все, что о нем думаешь. Таким образом, читатели романов компенсировали несовершенство своего социального положения, наделяя положительного героя качествами, отвечавшими их представлениям о справедливости. Это было иллюзорное оправдание двойственности положения «маленького человека» в обществе, где, с одной стороны, он стоял перед необходимостью подчиняться тем, кто стоит над ним, а с другой — стремился к ослаблению зависимости. Однако эта его потребность жить в соответствии с требованиями внутренней свободы вступала в противоречие с реальными обстоятельствами, и осуществление ее потребовало бы от него мученичества или «героического» действия. Все это накладывало заметный отпечаток на психологию масс, определяло поведение «маленького человека» в конкретной жизни и его пристрастия в духовной сфере.
Насколько в условиях Империи достоинство маленького человека подвергалось унижению со стороны бюрократического аппарата государства, настолько же сильно отвечала настроениям читателей иллюзорная возможность героя или героини романа в критической для них ситуации выразить собственное «я». В этом и заключалась компенсаторность, о которой говорилось выше: невозможные для маленького человека периода Империи в реальной жизни действия оказывались возможными для «идеального» героя в романе, который, будучи пленником внешних обстоятельств, в критических для него ситуациях сохранял внутреннюю свободу и действовал согласно представлениям массового читателя о достойном поведении человека. Риторический, условный характер этих ситуаций лишний раз подчеркивает, что античный роман отражал не подлинные жизненные коллизии, а давал некий образец индивидуального героического волеизъявления, создавая иллюзию проявления свободной воли и сохранения собственного достоинства.
Читателей привлекала не только стойкость духа героев, но и их активность и находчивость в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Нередко персонажам, оказавшимся на положении рабов, удается провести жестокого, но недалекого господина. Так, когда владелец, купивший Антию, потребовал, чтобы она стояла перед его заведением и завлекала посетителей, Антия идет на хитрость и изображает припадок эпилепсии. Затем она рассказывает своднику, как привидение, встреченное ею на кладбище, вселило в нее священную болезнь, и суеверный сводник всерьез воспринимает эту историю (Xen. Eph., 5, 7). В другом месте (3, И) индийский царь Псаммид, купивший Антию, пытаясь овладеть ею, отступает, поверив в ее рассказ о том, что она якобы посвящена богине Исиде, и молитвенно падает ниц перед нею. Каллироя, в которую влюблен персидский царь, также успешно прибегает к притворству (Char., 6, 5). Подобные места романов явно отмечены иронией,
|
|
| |
| 95 |

иногда откровенно пародийны (например, у Ахилла Татия), персонажи здесь проявляют себя отнюдь не как идеальные герои и воплощают в себе вполне реальные черты обычных людей, готовых во имя спасения прибегнуть к обману и притворству.
Значительное место в финале греческих романов занимают «судебные» речи и сцены судебного разбирательства, неизменно завершающиеся благополучным исходом для героев. В этих сценах несправедливо обвиненные обличают тирана или восточного деспота, реализуя тем самым возможность бросить в лицо притеснителю гневный упрек и свободное слово. Социальная направленность «судебных» речей греческих романов связана не с традиционными условностями романной формы, а с достаточно четко проводимой установкой, согласно которой духовная свобода человека не может быть ущемлена его социальной несостоятельностью. Сцены суда в романах Харитона, Ахилла Татия или Филострата, сопровождаемые чудесами или божественным вмешательством, являли собой противоположность социально регламентированному судопроизводству Империи, что отвечало настроениям низов, разуверившихся в возможности справедливого разбирательства в реальной жизни.
Повествование о разбойниках, как и рассказы о привидениях и любовные истории, были очень распространены в литературе периода Империи. Генетически и структурно упоминания о разбойниках были не столько связаны с предшествующими литературными формами, сколько обусловлены, по-видимому, устной повествовательной традицией, фольклором, мимом и, конечно, реальной действительностью. Не только окраинные и малодоступные области державы были местами обитания разбойников — большое число их внушало страх населению Италии, Ахайи, Памфилии и других провинций. Несмотря на предпринимаемые властями меры, Дороги провинций нередко подвергались их нападению, так что есть все основания говорить о разбойниках как характерном для Империи социальном явлении.
Интерес к подробностям жизни знаменитых разбойников был всеобщим. Психологическая потребность в таких героях возникла в результате
|
|
| |
| 96 |
крушения официальных ценностей культуры. Симптоматично, что в период Империи биографии знаменитых разбойников, соперничающие с жизнеописаниями «великих мужей», попадают и в официальную литературу. Так, Арриан, в молодости ученик Эпиктета, в зрелые годы — сенатор, написал биографию разбойника Тиллибора, не дошедшую до нас (Lucian., Alex., 2). Дион Кассий рассказывает историю Буллы Феликса (77, 10), который в течение двух лет во главе отряда из 600 человек опустошал Италию. Упоминает Дион Кассий и о Клавдии, грабившем Палестину в правление Септимия Севера (75, 2). Геродиан (1, 10) сообщает о Матерне, бывшем воине, бросившем службу и собравшем большую шайку, которая грабила крупные города и деревни, освобождала заключенных. Матерн замыслил тайно проникнуть со своим отрядом в Рим, внезапно напасть на императора и убить его. Осуществлению плана помешало предательство: Матерн был схвачен и обезглавлен, а сообщники его сурово наказаны.
С романами, где действуют разбойники, упомянутые истории объединяет сама тема бунтарского выступления людей, бросивших вызов судьбе. Ни авторов романов, ни тем более Диона Кассия и Геродиана никоим образом нельзя считать сторонниками бунтовщиков, и все же, несмотря на ряд их высказываний, в которых осуждается непокорность и нарушение законов, эти авторы не могут скрыть того, что, невзирая на преследования и потери, численность разбойничьих шаек не убывала. Отряд Буллы Феликса состоял в основном из крестьян и «цезаревых слуг», отряд Матерна — преимущественно из бывших военных, а также освобожденных из заключения. Причиной постоянного притока людей в разбойничьи отряды было, по-видимому, недовольство существующими порядками. В разбое искали спасения от нищеты, от жестокой системы налогообложения, от судейского произвола.
Отряды разбойников, судя по описаниям в романах, были вооружены и организованы на военный манер союза-«братства» (ср.: Apul. Met., VII, 7: latronis collegium). Как известно, государство поощряло деятельность коллегий, одновременно вмешиваясь в их дела и контролируя их, но оно, естественно, не могло поощрять деятельности коллегий, прокладывающих путь опасной частной инициативе, и тех союзов и объединений, где цели и нормы поведения их членов вырабатывались самой группой, а не спускались сверху. Тем большие опасения должны были вызывать у властей «братства» разбойников. Соответствующим образом формировалось общественное мнение о разбойниках как крайне кровожадных и жестоких людях (ср. упоминание о разбойнике, обрубающем ноги своим жертвам.— Galen., II, 188). В коллективной психологии населения империи сложился устойчивый стереотип «разбойника», нашедший отражение и в романах (ср. необычайную кровожадность разбойника в «Вавилонской повести» Ямвлиха).
Упрочению этого взгляда способствовали бытовавшие среди римлян традиционные представления о Египте как жестоком крае (ср., например, описание случаев каннибализма в Египте.—Juv. Sat., 15, 80), а также нашедшая отражение в греческих романах египетско-финикийская
|
|
| |
| 97 |
традиция ритуальных жертвоприношений, уходящая корнями в глубокую древность,— в романах в основном упоминаются египетские буколы, обитавшие на границе Египта и Финикии. Так, в романах есть эпизоды, когда героя или героиню намереваются принести в жертву покровительствующему разбойникам божеству (по большей части Аресу-Марсу.— Xen. Eph., 2; Apul. Met., 7, 10), и лишь благодаря случайности или изобретательности персонажей все оканчивается для них благополучно.
Конечно, очистительные и искупительные жертвоприношения имели место в действительности, но при этом в жертву приносили животных, а вовсе не прекрасных девушек, как в романах Ахилла Татия, Гелиодора, или детей — у Лоллиана. Авторы романов подробно описывают этот ритуал, из чего можно предположить, что он был им достаточно хорошо известен. Однако описание процедуры жертвоприношения, как и нагнетание ужасающих подробностей в романах ни в кос:! мере не следует рассматривать в качестве достоверных свидетельств: фиксация внимания на «невероятных», «странных» и «удивительных» фактах соответствовала духу времени и преследовала чисто художественную цель — поразить воображение читателя.
Вместе с тем некоторые сведения, содержащиеся в романах, можно интерпретировать и как отражение реальных черточек быта и поведения разбойников, в частности так называемых буколов, населявших дельту Нила. О восстании буколов предположительно в 172 г. (дата оспаривается) сообшают Дион Кассий (71, 4) и авторы SHA (М. Ant., 21, 2; Avid. Cass., 6, 7); представляется вполне вероятным, что используемая авторами романов военная терминология в связи с описанием разбойников исторически достоверна: «главарь разбойников», λήσταρχο: (ср. у Не-rodian., 1. 10; ά νιλησταοχος) называется βασιλεύς—«правитель» (Ach. Tat., 3, 9, 3; 12, 1; Heliod., I, 4, 1; 7, 1); у него есть «помощник» («щитоносец») —υπασπιστής (Heliod.; I, 4. 2). сами разбойники называются «соратниками по войску» — συστρατιώται (Heliod., I, 19, 3; 29, 5), а их шайка «войском»—ό στρατός (Ach. Tat., 3, 12, 1).
Однако больше всего читателей привлекало то, что все, связанное с разбойниками, отражало некую систему неофициальных ценностей, где в почете были чувства товарищества, верность, отвага и т. п. Вступление в разбойничий отряд в глазах многих читателей было порой предпочтительнее, нежели «унижение и рабская жизнь» (Apul. Met., VII, 4), отвечало некой компенсаторной идее величия и даже избранности «отверженных» представителей презираемых занятий (невольно возникает аналогия с воззрениями ранних христиан). Эта чужеродная система ценностей обнаруживает себя в романах в самых разнообразных формах: герои, к примеру, постоянно попадают в чужую им общественную среду: помимо разбойников, это могут быть кельты (Ant. Diog.), эфиопские гимнософисты (Philostr. VA) и т. д.
При характеристике разбойников в романах подчеркиваются такие их свойства, как доброта, доверчивость, способность к милосердию. «Настоящие разбойники вели себя гораздо приличнее, чем вы,— говорит Левкиппа купившему ее в качестве рабыни хозяину и его слуге,— и никто из
|
|
| |
| 98 |
них не был насильником» (Ach. Tat., 6, 22). Разбойник Амфином утешает находящуюся в плену Антию и усмиряет сторожевых собак (Xen. Ebh., 4, 6). В отрывке папирусного фрагмента романа, изданном Циммерманном, отмечается, что «разбойникам вообще не свойственно унывать» 5.
Разбойники выступают действующими лицами почти во всех дошедших до нас греческих романах, и среди них особенно интересна фигура «благородного разбойника», проявляющего необычайное благородство, обусловленное не происхождением или принадлежностью к определенному сословию или городу, а чисто человеческими свойствами. Как правило, это человек, который в силу каких-то несчастливых обстоятельств порвал с привычным окружением и стал во главе разбойничьей шайки. Наряду с присущими ему от природы качествами — великодушием, смелостью, верностью друзьям — он отличается ловкостью и удачливостью в предпринимаемых им вылазках (о таком удачливом разбойнике не раз упоминает Лукиан).
Такими выступают у Гелиодора Тиамид, у Ксенофонта Эфесского — Гиппотой, у Ахилла Татия — Менелай и Каллисфен (ср. VIII, 17: «любовь превратила меня в разбойника»). Отмщение за оскорбленную честь, за попранную справедливость — это прерогатива «благородных разбойников» греческих романов в отличие от латинских, где разбойниками движет лишь жажда приобретательства. Как говорит в романе Апулея Тлеполем, оказавшийся во главе шайки разбойников, «для разбойников выше всего должна стоять прибыль, даже выше, чем желание мести, осуществление которой часто связано с убытком» (Met., 7, 9).
Сферу семейных отношений и добродетелей в греческих романах дополняет сфера приватной дружбы; предпочтение, которое отдается в греческих романах отношениям, основанным на человечности, личной привязанности, говорит о том, что в понимании низших слоев эти качества оценивались очень высоко. Одновременно это свидетельство того, что связи и отношения, оправдывающие служение государству, потеряли для этих слоев свое значение6. Образ «благородного разбойника», по-видимому, отвечал настроениям тех, кто не принимал существующий порядок вещей и симпатизировал «бунтарям», выступающим против социального зла.
Пробудившийся уже к концу Республики интерес к личности в период Империи нашел выражение в повышенном внимании самых разных слоев общества к биографиям не только цезарей, но и других деятелей — риторов, софистов, философов и т. д. Из числа дошедших до нас произведений этой эпохи прежде всего следует назвать знаменитые «сравнительные жизнеописания» Плутарха, сочинение Диогена Лаэртского о философах, жизнеописания Пифагора и Плотина, созданные Пор-
5 Zimmermann Fr. Griechische Romanpapyri und verwandte Texte. Heidelberg 1936. S. 93, N 12.
6 Штаерман Ε. Μ. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи. Μ 1961. с. 282 и след.
|
|
| |
| 99 |
фирием, «Жизнь Платона» Олимпиодора, «Жизнь Пифагора» Ямвлиха. Все эти биографии в большей или меньшей степени отличает поиск высоконравственных примеров для подражания, подчеркнутое внимание к моральным качествам своих героев, проявляемым в критических для них ситуациях. В ряду произведений подобного рода стоит и роман Флавия филострата «Жизнеописание Аполлония Тианского», биография мага и чудотворца, жившего в I в. и. э. Записки некоего Дамида из Ниневии, на которые жена Септимия Севера сириянка Юлия Домна обратила внимание Филострата, стали для него основным источником биографии Аполлония (VA, 1, 3). Вопрос о существовании записок, приписываемых Давиду, продолжает оставаться дискуссионным: многие склонны считать, что и Дамид, и его записки — выдумка Филострата. Филострат мог использовать также сохранившиеся в коллекции Адриана письма Аполлония. Часть этих писем дошла до нас, но, как выяснилось, некоторые из них являются подложными7. Кроме того, в распоряжении Филострата могли оказаться сохранившиеся до его времени сочинение Аполлония «О жертвоприношениях» и биография Пифагора, о которых упоминается в «Жизнеописании Аполлония Тианского».
До Филострата об Аполлонии написал четыре книги Мойраген (книги не сохранились), о которых Филострат отзывается отрицательно, заявляя, что не обращался к ним. Из слов Оригена, младшего современника Филострата, который якобы читал книги Мойрагена, ясно, что Аполлоний в них изображен не в лучшем свете; возможно, негативная оценка Мойрагена совпадала со взглядами стоика Евфрата — реального исторического лица, противника Аполлония в романе Филострата. Филострат пишет, что использовал для биографии Аполлония книги Максима из Эг, повествующие о юношеских годах Аполлония в киликийских Эгах. По словам Филострата, Максим был ответственным за переписку на службе у императора Тиберия (1, 12).
До времени жизни Филострата сведения об Аполлонии очень скудны: Лукиан вскользь неодобрительно упоминает о нем (Alex., 5), Апулей ставит имя Аполлония рядом с именами Моисея и Зороастра (Apol., 90). Чрезвычайно показательно то, что фигура мага из Тианы после продолжительного забвения неожиданно в начале III в. привлекла всеобщее внимание. В качестве фигуры, в которой увидели выразителя общих Для разных слоев населения империи настроений и воззрений, он стал восприниматься лишь ко времени жизни Филострата. Дион Кассий сообщает, что Каракалла и его мать Юлия Домна во время похода в Каппадокию в 215 г. почтили память Аполлония в Тиане (77, 18). В ларариуме Александра Севера наряду с изображениями Авраама, Орфея и Христа было и изображение Аполлония. Император Аврелиан, захватив Тиану, не разрушил город, так как накануне ему якобы явился давно умерший Аполлоний (SHA, Fl. Vop., 26, 24). «Кто хочет узнать об этом, пусть прочтет греческие книги, в которых описана его жизнь» — возможно,
7 The Letters of Apollonius of Tyana: A Critical Text with Prolegomena/Transl. and comm. by R. I. Penella. Leiden, 1979.
|
|
| |
| 100 |
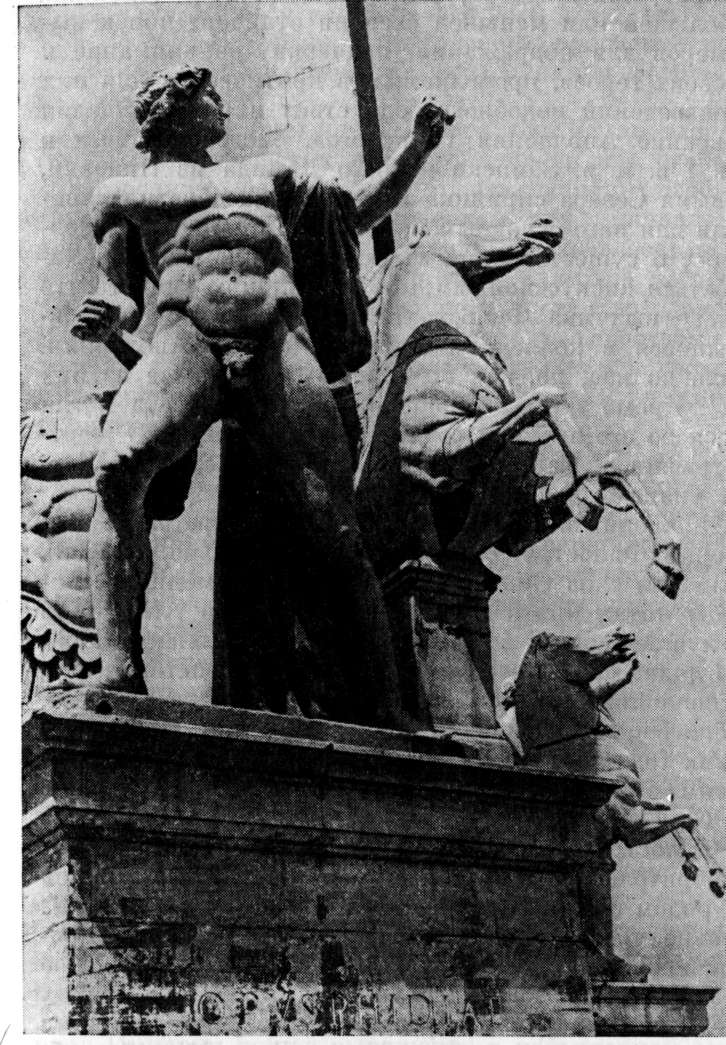
в данном случае имеются в виду сочинения Максима, Мойрагена и Филострата.
Вполне допустимо, что вопреки версии Мойрагена Филострат особенное внимание сосредоточил на высоконравственных качествах Аполлония, превознес его божественную мудрость, во всяком случае его целью было дать портрет идеального мудреца, а не мага, образец для подражания. В литературном отношении роман Филострата типичное агиографическое произведение: композиция соответствует поэтапному становлению будущего героя (детство, отрочество, юность и т. д.), чудеса сопровождают Аполлония начиная с самого его чудесного рождения, затем
|
|
| |
| 101 |
следует идеализированная
юность мудреца; став философом, он много странствует, отправляется в Индию и Эфиопию, где знакомится с учениями восточных мудрецов гимнософистов. Вернувшись в пределы империи, Аполлоний бродит из города в город, поучая народ и магистратов, как следует жить. Встретившись в Египте с будущим императором Веспасианом, Аполлоний знакомит его с наилучшими способами управления государством. Попутно во время своих странствий он творит чудеса: то изгоняет из человека демона Чумы, то оживляет впавшую в летаргический сон девушку, то распознает в невесте своего приятеля-философа злого духа упыря-эмпусу, то предвидит убийство «тирана» Домициана. Аполлоний противостоит «тиранам» — Нерону и Домициану, обвинявших его в незаконных занятиях магией. Арестованному по приказу Нерона Аполлонию остригают волосы, так как, по существовавшему поверью, сила мага заключается в волосах, и лишь после этого его допускают к императору, который, несмотря на возражения Аполлония («если бы я был маг, то не дал бы остричь себя, но коли позволил остричь волосы, то, стало быть, я не маг»), все же принимает его за мага. Тигеллин, развернув перед арестованным Аполлонием свиток, содержащий обвинения в оскорблении императорского величия, увидел, что свиток совершенно чист, и тогда решил, что имеет дело с демоном. Сам же Аполлоний, хотя и разбирается в мантике, не упускает случая отрицательно отозваться о суевериях. Когда его спросили, каким образом удалось ему вызвать тень Ахилла, он ответил, что просто помолился, имея в виду, что ему не пришлось прибегать к незаконной некро-
|
|
| |
| 102 |

мантии (4, 16). Одно из обвинений, выдвинутых Домицианом против Аполлония, состояло в его принадлежности к магам и участии вместе с Нервой, Орфитом и Руфом в человеческих жертвоприношениях. Придя в Рим, Аполлоний в защитительной речи на суде отвергает эти обвинения, проводя различие между высокой философией и низменной мантикой, между религией и занятиями чародейством. «Если бы я был магом, меня бы здесь не было»,—говорит Аполлоний Элиану по прибытии в Рим на суд (7, 17). Подчеркивая, что Аполлоний — идеальный мудрец, а не маг, Филострат дает понять читателю, что Тианец занимается свободной деятельностью, конечная цель которой — добродетель, и поскольку добродетельный человек подобен божеству, то ему незачем страшиться тирана (8, 7). Выиграв судебный процесс и обличив Домициана, Аполлоний чудесным образом исчезает, чтобы затем после своей смерти явиться некоему юноше, сомневающемуся в том, что души людей бессмертны и могут, следовательно, переселяться в другие тела (8, 28).
Филострат приступил к работе над романом, как он сам отмечает, по указанию Юлии Домны, матери императора Каракаллы, и то, что он не посвятил ей биографию Аполлония, говорит о том, что Филострат закончил сочинение после 217 г. (год смерти Юлии Домны). Юлия Домна собрала вокруг себя кружок литераторов (в него входил и Филострат), настроенных оппозиционно — насколько позволяла ситуация — по отношению к проводимой Каракаллой «тиранической» политике. Вполне очевидно, что многое, о чем говорится в романе Филострата полунамеками, было своеобразной реакцией на современные Филострату события. Особенно это касается тех мест романа, где речь идет о «тиранах» Нероне и Домициане, о перечне условий, которым должен удовлетворять «благой правитель», когда устами Аполлония Филострат излагает
|
|
| |
| 104 |
философско-политическую программу. Перечисленные положения в сочетании с советами Аполлония относительно мирных взаимоотношений императора и городов позволяют согласиться с принятым в научной литературе выводом о том, что «политические» части романа Филострата отражали основные черты правительственной программы ранних Северов и одновременно отвечали политическим воззрениям муниципальной верхушки городов.
Все это, безусловно, повлияло на то, что пользующийся популярностью среди широкой публики образ мага и волшебника Аполлония из Тианы в романе Филострата был «облагорожен» чертами философа-пифагорейца. Характерный для эпохи Филострата синкретизм — смешение философии и народных верований, пифагореизма и магии — тоже отразился на образе Аполлония, совмещающего черты философа и ясновидца. Вовсе не пропагандируемые Филостратом идеалы муниципальной знати должны были вызывать интерес массового читателя, связывавшего с образом боговдохновенного мудреца собственные представления о долге и чести.
В отличие от Сенеки, который почти полностью подчиняет человеческую личность безличной необходимости, в центре внимания Филострата оказывается вопрос о свободе воли человека, действующего в согласии с высшим, божественным установлением. В обстановке, когда масса людей, подавленная реальной действительностью, постоянно ощущала гнетущее чувство неудовлетворенности и бессилия перед внешними обстоятельствами, Аполлоний у Филострата являл собой образец исключительно независимой и духовно свободной личности. Как истинный мудрец он отказывается от всего лишнего и своим примером воздействует на души других людей: так, отказываясь в пользу брата, пьяницы и распутника, от причитающегося ему по наследству имущества, Аполлоний своим поступком возвращает того к добродетельной жизни (1, 13). Он говорит: «Я содержу свою душу в чистоте и чистоту своей души предпочитаю роскоши всех других людей, и это позволяет мне предвидеть все, что должно произойти в будущем» (8, 7). В другом месте Аполлоний утверждает, что индийские брахманы, учение и образ жизни которых очень напоминают пифагорейцев, хотя и живут на земле и парят в воздухе, не считают их своей собственностью, но владеют всем миром (3, 15). Когда вавилонский царь показывает мудрецу Аполлонию свою сокровищницу, как бы пытаясь соблазнить его богатствами, Аполлоний замечает, что для него это лишь мякина (1, 38), и когда тот же царь предлагает ему различные дары, мудрец отвечает, что, кроме сушеных фруктов и хлеба, ему ничего не нужно (1, 35).
Прибыв в Вавилон, Аполлоний должен был оказать почести золотому изображению царя и пасть перед ним ниц — к этому принуждались все, кроме посланцев римского императора. Однако Аполлоний не унизил своего достоинства, заявив: «Если бы того, кому вы поклоняетесь, я похвалил как человека добродетельного, это было бы величайшей удачей для него». На вопрос охранников, какие дары он привез царю, Аполлоний ответил: мужество и справедливость (1, 27).
|
|
| |
| 105 |
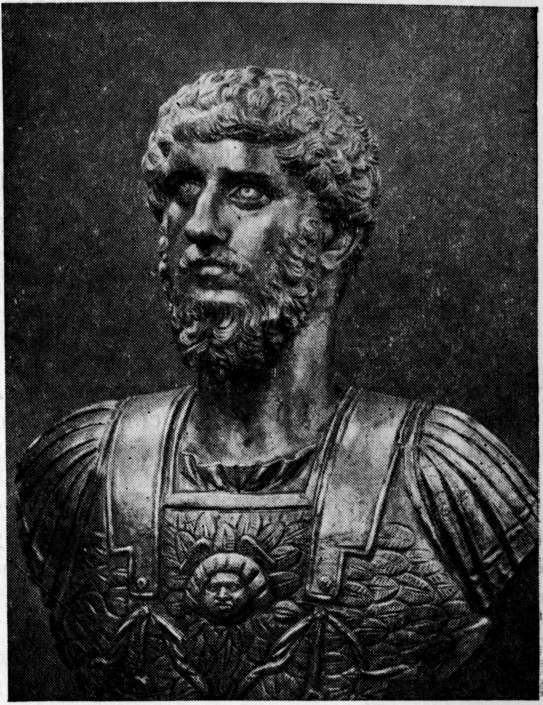
Аполлоний не только сам сохраняет духовную свободу, но и поддерживает других в их несчастьях: он выступает перед вавилонским царем в роли заступника за потомков плененных некогда Дарием эретрийцев: «Я прошу, чтобы этих бедных людей не сгоняли с их земли и холма, который они возделывают: ведь что может быть более жестоким, как не позволять им возделывать землю, которую они считают своею» (1,35). Брошенный в тюрьму по приказу Домициана, Аполлоний вселяет надежду заключенным, которые, по его словам, больше других людей нуждаются в том, чтобы с ними поговорили и утешили (7, 22).
Духовная свобода и независимость Аполлония особенно ярко проявляются при столкновениях с тиранами. «Тирана следует презирать настолько, насколько хорошо знаешь его»,— говорит Аполлоний. Когда в тайной канцелярии его спросили, почему он не боится Нерона, Аполлоний сказал, что божество внушает ему отсутствие страха (4, 44). Среди других провокационных вопросов, от ответа на которые, как это известно из писем Плиния Младшего, зависела жизнь человека, был и такой: что Аполлоний думает о Нероне? Аполлоний ответил на это, что Нерону приличествует не петь (Нерон считал себя талантливым кифаредом), а молчать. Когда же Тигеллин предложил Аполлонию свободу, если тот найдет себе поручителя, Аполлоний заявил, что никто не может поручиться за человека, которого ничто не может приковать. Пораженный словами Аполлония, Тигеллин отпустил его, решив, что тот слишком силен для того, чтобы им управлять.
Странствуя по провинциям и видя, как повсюду люди недовольны правлением Домициана, Аполлоний открыто говорил всем, что деспотизм тирана не вечен. Он рассказывал об аттических Панафинейских играх, где пелись гимны в честь тираноубийц, вспоминал об эпизоде из древней истории Рима, когда тиранов изгнали силой оружия (7, 4). Находясь в театре Эфеса на представлении пьесы Еврипида и услышав слова актера о том, что, несмотря на усиливающийся деспотизм, через какое-то время он неминуемо обернется своей противоположностью, Аполлоний поднял-
|
|
| |
| 106 |
ся со своего места и воскликнул, обращаясь к присутствующему императорскому наместнику Азии: «Но этот трус не понимает ни тебя, ни Еврипида!» (7, 5). Когда известие об убийстве Домицианом трех весталок в храме дошло до Аполлония, он заявил во всеуслышание перед народом, что от этого нечестивого убийства должна была бы пошатнуться земля. Оказавшись волею случая в Эфесе на праздновании в честь женитьбы Домициана (ранее убившего Сабину) на дочери Тита Юлии, Аполлоний, обращаясь к святыням, публично обличал императора (7, 7). Узнав о ссылке императором своих друзей — Нервы, Руфа и Орфита, Аполлоний произнес речь перед бронзовой статуей Домициана. Указывая на статую, Аполлоний сказал: «Он слишком мало знает о судьбе и необходимости. Даже если он захочет убить человека, которому суждено править после него, тот выживет». Эти слова были переданы Домициану через осведомителей, и тот вынудил Аполлония защищаться на суде против обвинения в тайной связи с Нервой, Орфитом и Руфом (7, 8—9). Предвидя свой арест, Аполлоний отправляется на суд в Рим, сознавая, что мог бы избежать опасности — но тогда, если бы он не предстал перед обвинителем, что его друзья подумали бы о нем? (7, 14). Поскольку философия учит тому, что следует идти на все ради спасения своего города, родителей, братьев и сестер, то лучше пасть достойной смертью свободного философа, говорил Аполлоний, чем умереть как раб (7, 12).
Хотя герой Филострата обретает духовную свободу и независимость, все же в его мировоззрении обнаруживаются некоторые типичные античные черты. Позиция Филострата как выразителя интересов муниципальной знати носила двойственный характер: обращаясь к массовому читателю в привычной для него форме — романе, включавшем чудеса, путешествия, описание экзотических стран, Филострат в то же время пытался защитить ряд традиционных установок, он старался таким образом примирить самосознание низших слоев с ценностями официальной идеологии и культуры.
Представляется особенно важным, что такие произведения, как греческие романы периода Империи, служат выражением не столько профессионально-литераторского, сколько читательского взгляда на мир. Один из важнейших признаков античных романов заключался в том, что творчество их авторов было неотделимо от читателей, для которых романы предназначались; авторы греческих романов в более сильной степени, нежели Петроний и Апулей, испытывали давление читательской аудитории, ее духовных потребностей и сознательно ориентировались на читателя. Вхождение новых тем, героев, сюжетов, полузапретных в официальном мире бытовых реалий, создававших своеобразный предметный мир романов, как и постановка новых проблем, стремление насытить текст романа философской и научной проблематикой можно рассматривать в качестве характерной черты культуры периода Римской империи. Огромная популярность романов свидетельствует о том, что многое из того, о чем открыто не говорилось в них, подразумевалось и угадывалось читателями, поскольку, по-видимому, было хорошо им известно.
|
|
| |
| 107 |
Несмотря на то, что фабула романов была в большинстве случаев асоциальной (благородный герой выступает против неблагородных и оказывается при этом втянутым в перипетии любви), восприятие читателя делало романы социальными, поскольку они способны были увидеть , романах больше, чем в них вкладывалось: герои романов оказались близки социальным настроениям низовых читателей. Таким образом, подлинный смысл греческих романов с их условными героями и положениями воспринимался читателями в связи с конкретной исторической ситуацией и обнаружен может быть только в связи с нею. Подобная крайняя степень сближения читателя и литературы является отличительной чертой массовой беллетристики, рассчитанной не на века, а на повседневные нужды читателей, и как раз такого рода литература отражает более или менее подлинные переживания «маленького человека».
|
|
| |
|
 |