 |
| 263 |
����, ���������� � ��� ����� ����. ���� �� ����� ��������, ��
� ���� ���������� �������� ��� ������������ ���� � �������, �������������
���������� � ��������� ����� � ������� ����������, ��������� ���������������
��� ������������ � �������������� �����.
��������� �� ��� ������� ����������� �����, ������������� �����
����� ���� ����� ����������. �� ������ � �������� ������ �����������,
������� ���������� �� ���. ��������� �������� ������ ���� �����
������� ����� �������� �����������, �� ������ ��������� �����
���������� ������ � ���� ���� �����. ��� ��������������� ��� �������������
� ��������� �����������; ����� ����, ����� ���� ���������� ��������
� ���� � ���������� �������. �� ��� ���� � ������? ��� �������,
��-��������, ������� ����.
������ �����, ���������� ���������� ���������� ����, ������� ��
���������, �������� ����� � �� ������ �������� ������������, ��������������
��������� � �������. ������� � �����, ��������� ������� ���� �������
������������� � �������� ����� ��������. ����� ������ � ��� ���������,
�� ��������������� ��������. ���, � ����� �������, ������� � ����,
��� ��������� ���������� �������� ������ ����� ���� ������� ��������.
��� �������� �������� ����� �������������� � ������������. ���,
��� ����� ���������� ��� � �������� �������, ����������� ����
� ��� ���������. ����� ������ �� ��� ���� ��������, �� � �����
� ��� ���� ������. �������, ����� ���� �������� ��������� �������,
�� ��� ����� ����� �������� �� � ������� ���������� �����.
� ��������������� ������� ��������� �������� ������, �����������
���� ������ � �������� ������������� ��������� ����������. ��
�� ������� �������� ���������, ��� � ��� ������� ����������, �����������
������� ��������� ����� ������. ���������, ���, �������� � ����
�����������, ��� �������� �� ��������� ������ �����. ������ �����
���������, �������� �� ������, �. �. � �����. �� ����� ����� ����
��������� ������� ���� � �������� �����, ����� ����������. �������������,
����� ������ ���� ������������� ������ ��� �������� ��� ���������
����� �����, ��� ����� ��� ����� ������������ � ���� �����������
��� ������ � ����� ����� ������ ��������������� ��������, ���
����������� ���������. ���� ���� ��� ������� ��������� ���� ����������
����� �����, ��� ���������� �� ���.
�������, ������ ������. ����� ������ ���� �� ��������� ��� ��������
������������ �����������. ����� ������������ ����� �� ������ �����,
�� ������ �����������, � ������� ������������ ������������ �����������:
������ �������������� ���������, ����������� �������, ��� ���������
������, � ��������� ����������, ������������ � ������������� �����������.
��������� ������� ���������� ��� �� ����� ������ ���������� ������.
�������� ����������� �������, ����������� ��������, �������������
� ������������� ����� �������������� ���������� ������� �����������.
���� � ��������� ������������ ���������� ��������� � �������������)
������ ������������� ���� �� ����� ���������� �����. ��� ����
������� �������, ������� ����� � ����� ������ �����������. �����
����� �������
|
|
| |
| 264 |
����� ��������� ��������� �������������, �������� ��������� �
������.
����, ��� ��� ��� �������������� �� ������������������ ���� ����������.
����� ����, �������, ��������������� ��������� ��������� � ��������
� ���������������� ������������� ������������� �������� ������
������. ���� �� ���������� ��� ��� ������ ��������� �������������
������ �����������, ��� ������������ �� ����� ��������� ������,
����� ��������� ��� �����. � ���� ������ ��� ������� ����� ��
������ �� � ��� ����; ������ ��� ����������� ���������� �� ������
��������� ��������. ���� �� ���� �� ������� �� ���� ������� ����
������� � �������� �� �� ������, ����������, �� ��� ����� ���������
��������� �� � �������� ��������� ��������. ���������� ��� ��������
������, ��� ������ ��������� � ����� ��������� �������� �������
������� � �� ����� ������ �����.
��������� ��������? ����� ������� �� ���� ������ ��������, ���
�� �������� ������������� ������� ����� ������, � � �� ���������
�� ���� ������� �������������� � ������� �����������. ����� ���������
������� ���, ��, ��� ��� �������, ��� ����� ��� ���� ��������
��������. ���� �� ������ �����, �� � ��������� ���� ���������.
����� ����� �� �������� �� ���������� �������.
� ������ ��� ���� ��������, � ���� �������� � �������������
�������. ������� ������� ������ � ���������� ������ �����,
� ������ ������ ��� ��������� ������ ��� ������ ��������������
������������ �� ��������� ���� �� ����. �� ������ �����
������ �� ���� �� �������� ���� ��� �����. ��������� � �������
������� �������������� � ������� � �� ��� �� ��� �������
����? ���� �� ���� �������� ��� ���� ����� ������ ���� ������,
����� �� ���� ������ ��� ����� � ��� ����������� � �������,
�����, ��������, ��� ������� �� ����������� ���� �����.
��������� ��� ������� ������� �������� ����������� ���������������,
����� ������ ���� ����� ����� ������. ����� �� ���� �������
�����, ���� ������. � ��� ������ ����� �� ������ ���������
����������� ������ � ����� �������? � �����, ��������, ��
������� ����� �� �� �� ���� ��������� �� ���������� ������,
���� ����� ����������� ������������� ��� ����� ������ ���
�����. �� �� ��������� ����� ������. ��-��������, ���� ����������������
���� �� ���������, �� ������� ������ �� ����������� �� ����������
����������� ����������� ��� �����, ��������, ������� � ������.
��������� ������� ������ �������� ������ � ��� � ���������
���������������� ��������� �����, ����� �� ���������� ��
����� ��������. ������ ������: �� ��������� �� ���������
� ����� ������������ ������? ������, � ����� �� ���� ���������
������. ����� ����, ������ � ������������ ����������, ���
��������� ���� �� ��������, ���� �� �������� �������� ���������������.
��������, �� ������� �� � ��� ������� ��������������� �����
���������, �������� ���� �������� �� �������������� ����������.
� ���������� �������� ��������� ��� ������������ �����������,
�������� �� �����������, ����������������� � ������ �������������
� ����� ��������������� � ��������� �� ������ ����� ���
����� � ��������.
|
|
| |
| 265 |
�� ������ ������, �������� �������� �����, ��� ��� ���� �������,
����������� �� � �������� ��������, � � ���������� ��������� ����
������. ����� � �������� ������ ���������� ���� � ����� ���������,
�� � ���� �������� ���������� ������ � ��� � ��������� ��������.
� ������ ����� �� ��������� ���� ������. ������� ��������, �������
���� �� ����� ����� ������ ��������. ������������� �������� ���������������
����������� ���� ��������.
��� ��� ���� ����� ����, �� �� �����. ���� �� ���� � ������ ��������
����������� ������ �� ��� ��������� ����������. � ����������,
�� ������ ������, �� ������ �� ���� �� �������. ������ �� ����������
������ ����� ����� ���������� � ������������ ���� �����, �����
������, ��� ��������� ��� ����������. �������������, ����������
���� �� ��������, �� ����� ����� ������� ������ �������, �����
�����������, ������ ��� �����������. ���� ����� �������������
��� ��������� �����������. ���������� �� �����, ���� ���������,
����� ����� ���������� ��������������� ������ �� ���������, �����
������ ����� ����� ������� ����, ���������� ������ � ������� �����������
����. �� ������� ��� �� ���� ���� � ���������� ���������� ������
� � ���������� ������� ��� ����������.
��������, ��� ���������� ����� �� ���������� ������ �� ��������
��� ���� ������� ��� ����������� ������. ������� �� �������� �
���������� ��������� ����������� ����������. �����, �������, ����������,
��� ������� ��� ������� ��� ���� �� ������. ��� ���� �� ��� �������
����� �� ������� �����, ��� �������� ������������� ��������� �
��������� ����������� ����. ����, ������� �� �������� ��� ����
�����, �����������, ��� �� ������� ���� ������ �� ������� ��������.
��� ���� ����, ������� ��������� ������ ����������. ���������
���� ���������� �� ������, ��� ��������� ����������� �������������
���������� ���������, � ������, ��� ������� ������ �������� ����������
���������� ����. ��� ������ ���� ����������� �� ��������, ���
������ ��������� ��� ��������� ����. ������ �� ��� ���� ����
������ �� ������� ���� ������. �� �������� ���������� �������
���� � ����� �� ���� �����, �� ������. ����� �� �� ������� �������,
����� � ������ �����, �� ���� ���� ����� �� ������� ����. ���������
��, ����� ���� ������������ � �������� ���������. ���� ����������
���� � �������� �������, �� ������������� ���� ��� ����� ��������
� ���� ������.
������������� ������ ���� ���� ��������� �����-������ ���������
����������. ������� ���� ��� ������, ����� �� �������� �����������-
��������, ������� ��� ���������� �������, ��� � ��������� ��������
�� ��������� ����������� ����������� ���������� �������� �������.
���� ��������� ���������������� � �������� ���������� ���� [21].
������ ����� ����� ������ �������� ������� ������� ������� �����.
���� ��� � �������, ��� ��������� ��� ������� �����, ����� � ���������
� �����. ���. ������ ��� ���������� �� ����������� ������, ���
��� �������������� ����������� ������ ������. �� ������� � �������
������� ������� ��� ���������� ����� ���� �� ����.
|
|
|
__________
21. �rr. V, 29, 1 � ��.; Curt. IX, 3, 19; Diod. XVII, 95, 1 � c�.; Plut.
Al., LXII, 8.
|
| 266 |
��� ������� ����� �������� � ��������� ���� ������ ���������
����, � ������ ������ � �������. ��� ����� �� �� �����, ��� �
������ ��������� ����������. �� ��� �� ������ ���������������
�� ����������� �������. ���, ������� ����� ������ �����������
�� �������� ��������������, ����� �� �������, ��������� �����������
��������.
�������� ����
���� ��� ����� ����� ������, ��� ��� ������� � ����... �� ������
��� ����� �� �������� ���������� �����, ����������� ������� ��
�������. ����� ��� ��� � ������ �� ��������. ��� ����������� ��
��������� � ��������* � ������� �� ������, ���� �� ���� �� ����.
�����, ����� �� ����� �� ����, �� ��������� ������ ������� � ������
� ������. ��� ������������ ������� [22]. ������ �� �������� ���
�� ������ ����������������, �������� ������ �������� ����, ��
� ����������� �����������. ��� ������������ ������ ���� ���������
����, ��� ���� �������� ����������, ����������� �� �� �����������.
��� ����� ���� ������������ ��������� �����, �������������� ��������.
� ���������� ������ ���� �������� �� ����� � �������. ����������,
����������� �� ���� ������� ������, ����� ����� ���� ��������������
����� �� �����. ����������, ��-��������, ���� ���� ����� ��������
�������� � ����������� ��, �� ������ ������, �� �������� ��, �����������
�� �����. ����� ����, �� �������, ������ ����, �� �����������
�����������, ��� �������� ���� ������� � ������� �������� [23].
����� �������, ��� � 500 �. �� �. �. ���� ������ �������� ����.
����� �� ���� ����������� ������� ��������� �� ����� ���� �� �����������
������ � ������ ������ ������ �� ������. ����� I ������� � ��������
������� ����� � ���������, ��� �� ����������, ��� ��� �������
�������� ������. ������ ��� �� ��������� ������������ ������ ����
� �� �������� ������� ������� ����������. ��� �������� ��������
������ ���� ������ ��������, �� �� �������. ��������� �������
� ��������, � ������� ������� ������ ������� �������� ��� �����������
�������� ������������ ����������� � ��� ����� �������� �����������
� ������ �����.
����� � �������� ��������� ��������� � ������ � �����, ��� ����
� ������ �������� � ���������� �����. ���� � ��� ����������� ���������
�����������. ��� ���� �� �������� ��������������. ���������, ��������,
���� � ������� ��� �� ����������, � �������� ����� � �����������
��������� ��������. ���������, �������, ��� ��������� �����, �����������
�������, �� ��� ������� ���������� �����������, ����� ����� ��
���������� ���� �� ���� ������� ������ �������� � ����� ��� ��
�������� �����, ����������� �������.
|
|
|
__________
* �������� � ����� � ��������. ��������, no-��������, ������� �
��� �� ������� (��������������� �� �����������, ��������, ��� ����������
������������).
22. Herodot. IV, 44.
23. Arist. Pol, VII, 1332b, 24.
|
| 267 |
��� �� ��������� ����� ����, ��� ���������, ��������� ���� �
������ �������, ��������� ���� �� ����, � ����� ���������� �����
�������� ��������� ���� �� �����? ��� ����� ������� ������ � ���������
������� � ������ � ��� ��� ���� ������, ������� -�����������������
������������, �������������� ���, ���������� �����, ���������
����� � ������� ����. �� �����, ����������� ���������� �������
���� ���������������. ��������� ������� � ������� ��� ��� ���-���
���������� � ����, ������� ����������, ��� ����� ���� ���������
�����. ������ ��������, ��� ������� ��� ���������� ��������� ��
������� ����� �� ���������� ������� � ���� ��� ��� ����� �����
������ �� ����������� ������ �� ���� ����� [24]. ����������� �
���������� �����, � ������� ����������� �������, � �����������
�������.
�����, �������, ������������, ��� ����������� ���������� ��������
������ � ����� ����������������. ������, ����� ����� ������ ����
������� ������� ������� ���������� ��������� ����� ���� �����
�� ���������� (� �� ����� ��� �� ������, �� �����), �� �� �����
������� � ������������� �������. �� �� ������� ������� � ��������,
���������� � ������ ����� � ����������� ������ ������, � �������������
������� ������ �������� ��� �� ����� � �������. � ����, ����������,
����������� ������� � ������������, ��� ��� ������������ ����
�������� � ����� ������� �������� ��������� ���� ��������� � ���.
���� �������� ���������������, �� ��� ��� �� ����������� ����������
������������ �������������, ��� ��������� ���������� �� �� �����
������, �� ����� ���� �� ���� �� ��������� � �������.
���� ���������� �� ������ ������ ������� ���� �� ����������. ������
���� ������, ��� ��� �������� ���� ���� ������� � ��� ���������
�������������� ����������� ���. �� ���������� ���� �����. � �����������,
������� ����� ������� ����� ���, �� ��� ������� � ���������� �
������������ ����� �����-�� ��������� �������. ��� ����� � ��������
������������� ����� ��� �� ������� ���� ������ ��� ������; ������
�������� ���������� �����, � ������� �� ��������� ���� ���������.
���� ����������� ������ ��� ����� ��������� � ������ ��������������
� ����������� �������. ������������ ����������, �� ����� ��� �����������
�������� ��������������� ����������, ���� � ���� �������� � �����.
���� ��� ��������� ���������� ���� ������ ����������, �� � ���
�� ��������� ������ �����, ��������� ����� ���� ���������������
� �� ���. ��� ����� ��������������� �� ���� ���� ��������������:
���������� ���� ������ ����������.
� �������, ���, ����������, ������ ������? �������, �������� ��
���������� ������, �� �������� ���� �����������; �����, �����������
� ���, �������� ������ ��� ����. ��� �� ����� ������ �������������
� ������ �����, ������� �� ������. ��������, ����������� �������
���� ������ �������������� ��������� � ������ ������������. ��
������ ����, ��� ��������� ���� ����� ��� ������ �������� � ����
�������. � ����� ������������ ������ ������� �������������, �����
���� ����������� ���, ��� ��� ����������� ����-
|
|
|
__________
24. �rr. VI, 24, 2; Strabo XV, 686; �rr. Ind., I, 3.
|
| 268 |
���� ��������������� � ��� �������� ��������� ������. ���� ��
������� ����� ������ ������� ���������� �����������������? �����
����� ������ � ��� ����, ������� ����������, �� ���� ����, ������������
������ � ����������!
����, �� ������� ������, ��� ���������� ������ ������ �������.
� ������ ����� ������ ����������. ���� ���� ��� �����, �����������
� ���������� ������� � ������� � �����, ����� ������� ���������
������� �� �������������� � ����������, �� ������ � ��� �� �������
�� ��� ��������� � ��������. ��������, ��������� ��������� ���
����� ������ ��������� ����������, �� ����, ��� ���� �� � �����
������ ������������ � ���������� ������������ ������, ���� ��������
��������� ������ ������������. �� ������� ������, ��� ��������
��������� ������� ������� ����������. ����� ����� � ��������,
����������� ��������� ������ ��� �����, ��������� � �������� �������?
���� ������������� ������ ������������� ����� ������ ����������.
���������� ����������, ������� ��������, ������������� � ���������������
��������, ����� ���� �� ��� ����� ����� �������� ������ �����
��������� �������� � ������ ����� ������, �� �������� ���� ���-����
���������. ��������� ����������� ��� ������� ��� ����, ����� ��������
����������� �����, ���������� ��� ���������� ����������. �����
� ����� ��� � ������ �� ��������� ����������, ��� ������ � ������
�����, ������������ ��������������� �� �������, ��� �� ������
����� ������, ��� �� ������ ������ ����. ��������� ���� ���������
���������������, ���, ��� ���� ��������, ��� �� �������� �� �
����� ������ ����� ����. ����� ��������������� � ������. � �����������
���������� ����� ���� �������� ����� ����������, ��������� �������.
� ����� � ��� ������� ������������ �������� ����. ����� �� ���������,
��� � ������, ��������� ������� ����� ����. � ����� � ��� �������
������������ ������������ �� ����� ������� � �������. �� �����
����� ���� ����� ������, ��� � � ������, ������� � ��������������
������� ����� [25]. ���� ��� ��������, ��� ������� ���� ����������
������� ������� ���-�� � ������� ����. ��������� �����, ��� �������
��������� ��� �������. � ��� �������������, ������ ������ �� ��������
� ������ ����� � �������� ����� �������� ������� ������ ���� �
���� � ��� ��������. ��� ��� �� ��� ��� ������� �� ������� ����������
���� � ��������� ������������� ����, ��� ������ �������������,
��� � ������� �� ������ ���� ��������. �����, ������ ����, ��
������������ � ������, �����, ��� ��������� �����, ����� ��������������
���������� ����� � ������. �� ��� ��� ���� ����� ������ ��������.
������� �� � ������� ������� ���������� � ������. ��� ������ ����
�������� ����� ����, ��� ����� �������� �� ����� ����� � ���������
������ ������. �� ���� �������� ���� ��������� ��� ����� [26].
������ ��, ��� ������� ����������� ������, ��� ������, ���� ��������
���������. �� ��������� �������, ������������� ����� ���������
� �������� �������� ����, ���� ����� �� ������� �� ���� ������
[27].
����������� ������ �� ����� � ���� �������� ���������� ������,
|
|
|
__________
25. Nearch., frg. 18, � Aristobul., frg. 35 � 38 {Strabo XV, 691
� ��.; XV, 707).
26. Nearch., frg. 20 (Strabo XV, 696).
27. Arr. VI, 2 � ��.
|
| 269 |
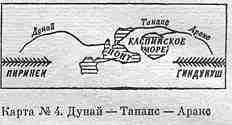
����� �������, �� ��� �������������. �������� ����� ����������
��� � ��������, �� ���� ���������� �������������� �������. ������
������������� ������������ �� ��������� ������������. �������
� �������������� ������� � ������ ������� ������������ � �������
��������, ��� ������ ������� �������� ���� ������������. ����������
�������, ��������, ��� ����������� � ������� � ������ �� ������
������, ������� ������ � ��������, ���������� ���� ����� (������),
������������ � �������� � ������� � ������� �� ����� (��. �����
�4).
���� ������� �������������� ��������� ��������� � �������� ��
����-����. ���� ��� ��� ������ ������ �����-������� �����������
������� ��������-�������� ��� ��������, �� ������������� �����
����� ����������� �������-������� ���� �� ���. ���� ������-������
������ � ��������� ����� ������� ������, ����������� � �����������
������ ���� � ����� ��������� � �������� ��� ������ ���������,
�� ������� � ��� �� ����� ������ ��� ��� ���������� ����� ����
� ��������� � ��������� ��� ��� ��������� ����.
��� �������� ��������� �������� ��������� ����, ��� ���������
������������� ��� ���� ����������� ������������� ���������. �����
����������� ����, ��� ��� ������ ��������� � ��������, ������������,
����� �������, ������� ������. ��� ������ ���� ��, ��� �������
(�����������) ���� ������������ �� ���������� � ����������� �����
���������� ����������� (�����������). � ������� ������� ���, ������,
�� ���������������: ���� ��� ���������, ��� ������ ��� �������
�� ���� � ������� ����. �� �� �����, ��� ��������� ��������� �
���� ����������. ��������, �� ����� ������ �� ���� �� ��������
������ �������� ��� �� ���������� �� ������������ ����������.
������� ���� ��� ���������� �����������, ��� ���� ����� �������
������� � ������, � ������ � ���������� ����, ��� � ���� �����,
��� ���� ����� ���� ��� ������� � ����������� ����, � ������ ��������
�� ������. ��� ���, �� �������������� �������, �� �������� ��������.
������� �������� ����� ������������ ����� �����������. (�����������
������� ���, �������������� �������� ����������, ���������� ��
����� �5.)
��������� ��������� ���� ������������� � �������� ���������� ��
������������ �������� ����, ����� ��������� �� ��������� �������.
����� ������������ ��������� ���������� ������ ���� ��������,
��� ����������� ���� ������� � �������, �� �� ����� �� ���������
� ���������������� ������ � ����������� ����������� ���� � �����������,
��� ��� ���� ������� � ������� (����� ����� ��������� � ������
�������). ����� ����, ��� �� ������ ����, ��������� ����� �������
����������� ����������������� ����������, ����� ������ ���������
��������. ��� �������� �����-
|
|
| |
| 270 |
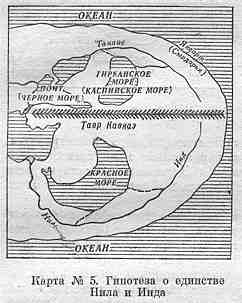
������, ���� ��������� � ��� ����������� � 330 �. �� �. �., �����,
������ ��������� �� ���������� ��������� ����������� ����, ��
�� �������� �� � ����� ����������� �������������. ��������� �������
���� �� ���������� ���� � ���������� ����� ����������, ����������
��������� ������ 325 �. �� �. �., ����� ����� ����� ��� ���������
���� � 5 � 6. �� ����� ���� �������������� ���������� ����������
����������� �������������� ���� ��� �� ������, ��� � �� ���.
����� ��������� ������ ����-�������� ��������, �� ��� ����� ������
�� ��������� ������� ������ ��������. ��� � ����� ��� ����������
� ������������� ����� ��������, ����������� ��� ������ ���������
����. ��������� �����������, ��� ��� ���� ��������� �� �����-��
����� � ���� ���������� ��� ������� � �����������. �� ������ ������,
���� ������ ����� ������� �� �������� ����������� �������� ������
� ��� �� ������ ������������ � ��� ������������ �������, ��� ��
���������� ������ ��������� ��������� ����.
��� ������� ��������� ������ ��� � 326 �: �� �. �., ��� �� ������
��� �����, ����� �� ����� ������ � ������������� ����� �� ����.
��������� ��� ������ ������ ��� �������� �� �� ��������� �����������.
������� �� ����� ����� ���������� � ������������ ������������������
������ ���� �� ����, ����� ��� �������, �� ����������� ���� ����
������� � ���. ��� �� ���� ����������� � �����������, ��� � �����������
����� �������� ������ ���� �����������. ��������, ���� ��� � �����
�������������� ���������, � ��������� �����������, ���� ��������
���� � ������ ������� �������. ����� ����, ���� ����������� ��
�������� ����� �������� �����. ��������, � ��� ������� �������
������ ����� �� ����� ����������, ����� ���� ��� �� �������� �
��������� ����������� �����.
������ ������������� ����� ������� �� ����� ��������� ������.
����� ��������� ���������� ������� ������� ����� ����, ��� ���
����� ���� �������� ���� � ���� � ������������� � �����������
��� � ��� �����������.
��������, ������ ���, ����� ���� ��� �������� � ������ ����������
� ��� ��� ����� ������ �������, ������� ����� ����������� ��������
�� ����. � ���������� ��������� ��� �� ��� ����������� � �����
������� � ���������� � ������� � ����������, ������������� ���
�����.
|
|
| |
| 271 |
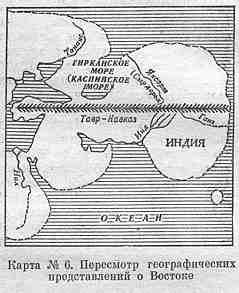
������� ����, ��-��������, ���������� ���������� �� ������������
��� ��������. ������ ����� �������� ��������� ���� ���������,
��� ��� ������������ ����� �� ����������� ��������. ��� �� ���
��������, �� �������� ������ ���������� ���� ������ �� ������;
���� � ��� ���������� � ���������������� ���������� ����������
� �����. �� �� ������ �� ����� ����� �� ��� �� �� �� �����. ���
���� �� ����, ��� ��� ���� �������� ����� ����������. ����������
���� ������ ������� ����, ����� ������� ���� �����. ������, ���
�� ��������� �� �����������, �� ������� ������� ������ �������
���-���� �����������. ����� ����, �� ����� ���� ����� ���� ����������
������������ ���������.
����, ����� ����������� � ������� ������������� ����� ������������
� ��� ������� ��������. ����������� ������� ��������� �������
� ������������� � ������� �������� �� �����, �����, ������� �
������. �����, �� ������� ������� ������� � ����������� �������,
����������� � ������������� ��������. ���� ����������� ������,
��-��������, ��������� ������� ����������� �����. � �������� ����
���� ��������� ������������ ������, ������� � �������� ��� � �����
�������. ������ ����� ���� ������ ������ ���������� � �����������
�����.
������ ����������
����� �� ����������� � �����, ����������� ��������������� ��������
����������. �� ��������� ������� ��� ������ �������� ����: �����������
������� ��������, �������������� ������������ ���� ��� ���������
�����, �������, ������ � ��������������, ��������� �����, ���������������
� ��������,��������������, �� ������ ��������, ����� 2000 ��������.
�������, �� ��� ������� �� ������� �������� � �����������, ���
�� ��� �� ������� � �������. �������� ����������� ��������, �������
������ �� ��� ������ ���� ������� [28].
��������� �� ��������� ���������� �� ����� ��� ������. �����������
������ ������ ���� ���� ����� ������, �������� ������� ����� �������.
�� ��������� ����� ����� ����� �������, � �� ����� ������ ����
���������� �� �����. ����� ����������, ��� ������ �������������
����� 120000, � ������������ ������� ��-
|
|
|
__________
28. �rr. VI, 2, 4; ��.: �rr. Ind., XIX, 7. � ��������� �� ������ ������
������ ����� �������� ��������� �� 800. ����������, �������� ��
���, ��� � �������� ���� �������� ������ ������� ��� ����� �������.
|
| 272 |
������ ������. � ���� ������� � ������, ����������� ����������,
� ��������� ����� � �����, ������ ��� ��������� � ������ �����������,
������� ������, ��������� �� ���������, � ������������� ��������,
����������� � ����� �� �������. ���� ����� �������� -�� ��������,
�������� � ������, ��������� ����������� � ������� ������� �,
�������, ������� ��������, ������� ����������� �� ������ 20 000
������� [29].
����� ������ ������ ������ ������������, ���� �����������, ������
����� ������� ����, ���� ������ ��� ������� ��� �� �����������
������. �� ����� ���������� ������ �� ������. ������ ���������
������� ����� ��������� ������ �������� � �������� ����� �����
��� ��������� ������������. ����� ������� �������� ��������� ��������
��������� ������� ����, �� ��� ����� ��������� �����, � �����������
������� ������ ����������� ���� �������������. ������� ����� ����������
���� ������� ����������� �� ����, ��� ������ ���� ���������� -������������
�������� �� ������� ���� � ������ ��� ��������, ��� �. ������������
������. � ��������, � ���� �� ���������� ������ ���� �����, ���������������
����� �������. �� � ����� � ������ ���� ��� ������, ��� ���������
������������ ����� ���������� � ������ ������ �������.
���� ������� ������ ������� ����������, �����������, ����� ����
� ��� ����� ������ �� �������� ���� �� ����� ����. ����� ����,
��������� ������ ��� ������� � ����������� �������� � ����� ������������
�������� �������� �����. � ������ ������ 326 �. �� �. �., �����
������� ���������������� � ���������� ����������, ����� ��������
������ ��� ������ �� �������, ���� ��� �������� �� ����. ���������
������ �� ��� ������������ ������� � ��������� � �������� � ������
�����, ������� �������, ���� ������ ������ � ������ �����������.
������������ �������� �� ��������� �� ������� ����. ����� ����
����� ��������� ��������, � ������� � ������� ������� ������ ��
������, ����������� � ������� ����. ��� �������� ����� �������,
�������� �������, ����� � ����� �������. ��� ���� �������� ����������
�������! ������� ������ � �������� ��������� �� ������� � ����
������ ����� �� ���������. ��� ������� ��� ����� ����� � ��������,
�������� ����� � ����� [30]. ��� ��� ���������� �� ������ ������,
��� ������������ ��������� �������� �� �� ���� ������������. ��
���. ��������, ��� ��������� ������� ������������� �������� �������������
�������. ��������� ������ � �������� �������� ��� ���� � ��� ������.
�� ���� ������������� ������� �������, ������� ��� ���������������
����� � ������ �� ��� ������� ������.
�� �������� ������� � ������ �������� ��� ��� ������������. �������
����� ������, ��� �� ����� �������, ��������� ���� � �����������
� ��� ������ � ����� �������. ����� �������� ������ ����������
���������� ��������� � ����������. ��� ���������� ���������� �
���� ������ �������, ��� �� ������� � ���� � �����. ������� ������������
����� ������� ���� ����. ����� ���� ���� �������� ��� ����� �������
��������� �������. ��� �� ��������-
|
|
|
__________
29. �rr. Ind., XIX, 5.
31. �rr. VI, 3, 1 � ��.
|
| 273 |
�� ��� ����� ������� ������ � ���������� ������ � ����� �� �������������,
��� ������� ��� ��������. �������� � ��������� ����� �����������
��������, ���������� ������ ���������� ������� � �������� ����������
������ ����� ����� ������ ������. �������������, ��� ������������
��������� ����� �������� ���� �� �������� �������.
���������� ���������� ����� ��������� ������ ���� ����� 10000
���������, 700 �������� � 80000 ����������. ����� ������� ����
����� ���������� ��������� ������, ����������� ��������� �������
���������. �������� ���� ����� ������������ �������� �������:
��������� �������� ���������� � ������� ��� ���� ��� �� ������
�����. ��������� �������� ����� ���� ����������, �������������
���������� ��������. ������� ���� ����� ������� ����������, �����
�� ���� ����������� �������� �����. � �����, �������� ���� �������������
� ���� �����, �� ���� ����� � ����� � ��������� ���������. ��������
���� � ����� ����� ������� �� ������ �����, ������� ���������
��� ���������. ����� ������ ��������� � ������ ����� ������� ���
�������� ��������� ����� ������ ���, ��� �� ������ ����� �������.
�������� �������� ����� ��������� ������������ ��� � ������ �������.
�������� � ������� ����� ��� �������� ���� ������ ��������������
�� ����������, �� ������������� ��������� ������������ �� ������.
��� ������ ������� ��������� ������ ���� �������� ����� ������.
��� ������ ������ �� ������� �� ������ ��������� �� �����. �����������
����� ����� ��������� ���� �� �������� ����������. �� ������ ���
������� �� ��������, ������� ���� � �������� � ������ �������������,
�� ��� ������� �������� ���������������� ��������� [31].
������ ������ ��� ����� �������. ��-�� ����� �������� �����������
������ ������� ������ �� ������ ���������. �������� �� ���, ���������
�������� ���������� ����� ���������� � ��� ��������� ���������.
����� ��������� �������������� ����, �� ���� �������� � ��������,
����������� ������� �� ����������. ���� ���� � ������� ��������
��������� ������� ��������� �����. ����, ������������� ����, �������
���� �� ���, ��������� � ����� � ������ �������� �� �����, ���������
���� �����. ����������� ����� ��� ������ �� ������� ��� �������
�� �����. �� ��� ����������� ������� (��������) � �������, � �����
�����, ������������ ����������. �� ������� ��������� �� �����.
����� ����� ��������� ����������� ����������� �� ���� ��������,
�� �������� �� ��������� � ���������. ���� � ����� ����������
�������� �� �����. ���������� �������� ���� ������ �� ����������
��������, � ��� ����� ������������ �� ���� ������. �� ���� � ������
������� ���������, �������� ����� �� �� �� ���� ������, �� ���������
�������� ������. ������ ������ ���� ���� ������������, �� �������
��� ������ �������� ���� ������, � ����� ���� ���������� �� ������.
�������������� ����� �������, �� � ��������� ���������� �������
���� � ����������� ������ � �����. ������� � �������� �����������
����������, ������ � �������, ������� ����-
|
|
|
__________
31. �rr. VI, 9 � ��. ������ ����������: Fr. Schachermeyr. Alexander in
Babylon. Wien, 1968, c. 215 � ��.
|
| 274 |
�� ����������� �� ���� ������. �� ����� ������ ������ ������
�������� ������ � ������� ���, ���������� ��������� � ����� ������
������������ ���� � ��� ���������. ��������, �������� �����. ������
��� �����, ���������� � ������. ����� �������� ����� ����������.
������ ������� ������� � ������ � ������. �� ���������� ���� ����������
����� � ������, �� ��������� ��������� �������, ���� �� ������
����� �� ������� ��������. ������ ��������� ������ ��� ��� �����.
������� ��������� �����, ���������� ������� ����������� � ����,
��������� ����. ��� ��� ��������� ��� ��������. ��� ������� ����������
����������� ����� �����. � ������� �������, ��������� ���� �����
�� �����, ��� �������� �� �������. ������������ ����� �������
������ ��������� ����� � ��������� �����. ��� ������, ��� ���������
����, � ������ �� ����, ������� �������� ����� � ��������� ���
�����. ���� ������ �� ��� ����.
���� ����� � ��������, ��������� �������� �������� ������ �� ����.
��� ���� �� ������� ��� ����� �����, ��� ����� ���� � �������.
�� ������� �������� ���� ��������, � ������ �� ����������. ���������
������ ���� ����, ����� �� ����, ��� ������ ���������� ���� ��������
�������� � ������ ����������. � ��������� ������ ��� ������� �����
���������������� �� ���� ��������� ����� �������. ��� �� ��� ������������,
��� ����� ����������� ��������� ���������� ������� � ��������
�� ��������� � ����������� ���� �����.
���������� ��������� �� ������� � ������, �������� �����������
� ������� � ����� ���� �������. �����, ��� ���������� � ��, ���
��� �������� �� ��������� ������ ������ ������������, ���� ���
���� �� �������, ����� ������� ����������. �� �������� ��������
���� �� ����, ����� ���������� ����. �� ����� ����� ��� ������������
��������������� �����, � ��������� ����� �� �����. ����� ������������
���� ������� ��� ����� ���� � ������� ������ ����������, ���������
� ����� �������� �� ��������� ������ ��������: ������ ��������
�������.
����� ������������ ����������� �������� ���� �� ������� �����,
��� ���������� �����. �� ������ �������� ��������, �� � �� ����������
��� � ����� ��������� ���������� �� �������������. ��� �������
����, ��������� ������� ����, �������� ���������� � ���� ����,
��� ��� ���� ��������� �� ������������ ����, � ������������ ����������
�� ����� ������. � ����������� ������� ������� ��������� �������
������� �������, ������ ������� ������ � ���������� ������ � ������
������� ������� � ��������. ��������� ����������� �������� ����
����, � ������� ������ ����� �� ���� ������� ����� ������ �� �����
� �����. ���� ����� ���������� �� ������� �� ����, �����, �����
�������, �� ����� ����� ����������� ��������. ����� ���� ��������
���������� ������� �������� �������. � ���� ������������� ������
������ ���� ��������� ����� � �����. ����� ����������� ������
���� ����� ������� ���� ������� ���� � ��� ��������. ������ ���������
����������� ��������� ������������ � ��������� ��������
|
|
| |
| 275 |
������ � �������� �� �������� �� �����. ������� ����� �� ���������
� ������ ����������� �������� � ������������ ����������. �� �������
������� �������, ���� �������. ������ �� ������ �������� �� ��������
����� �� ������� ����. ���� �������� ��� �������� ������� ���������
������ ��������.
������ 325 �. �� �. �. ����� ��������� ������. � ���������� ���������
������� � �������� �����������. �� ��� ���, ������� ������ � ������
�������, ��������� ��������� �������� ���������� ��������. ������
�� �� ���� ����� ������ ���� ���� ���� � ���. � ������ �� ���
��������� ���� ��������, �� ������ ������������ ����, ���� � ����,
���������� ���� ���, ���� �������� ������� �������� �������� ����
���� ����. ������ � ����������� �������, ��������� �� ������������
�����������. ������� ������, �������� ����� ���, ���������, �����
�������, � ������� ������ ����� ���� � ����� ������������ � ������.
������ ����� ���� �������, ��� ����� ������ � ���������� ����
�� ������� ����.
������ ������� ������� ���� ���������� �� ���������� ������. ���
�� ���� ��������, ����������� � �� ���������� � �����. �� �����
���� ��������, �� � ����� ������ ��� ����� ��������� �������������.
�� ���� � ������� ����� ���� ����������; ������� �� � ����� ������
������� ����������� ��� �������������, � ����� ���� �������, �
������ �����. �� �� ����� ������� � � �����, ���������� ������������
����������, �������� �� ��� �������� ���������� [32]. �������
�� ������� ��� �� ������ ����������� � ���, ��� �������� �����
�������� � ��������� ������������� �� ��� ���� ��������. ���������
���������� �� ���������������, ��������� � ������� � �����������
�������� ������ [33]. ������ ��� �������� ������ �� ���� ��� �����������
������������� �����������. �������� � ���� ��������������� ��������������
���� �������, ��� � �������� ������� �� ������. � ���� �� ���������
�� ��� ����������� � ���������� ������ ������������ ������� ��������
� �������� ��������� �������, ��� � ����� ������ ��� ������������
����� ����� ������� ������������ � ��������� ������ ����.
���� ��� �� ������ ��������� ����� ���������� ���� ������������
� ������� ������ � �������� ��������� ������� ������� �������
����, �� ������, ����������� ��������� ��������� �����, �� �����
�������� ���������� ������ ������������ ����������. �� �� ������
������ �������� � ���������: ����� ������ � ���� ������� ����
����������, � ����, �������� ������, �������� � �������. ���������
����� �� ����� �������� ����, ����� ��������� �� ����� ���-���������
�������.
���������� ����������� ��������� ������� ���� ��� �������� �����.
��� ����������� ����� �����������, � ��������� �������, ����������
����� �������� �� �������� ������� ���������. �������� � ������
�������, ������ ������� ��������, ���� ����������� � ���������.
������ ������� � �������� � ������������ ���� ���� �������� ������
�������. � ������� �������� �������� � ��������� ������. �� ����
��������� ���� ��������� �����-
|
|
|
__________
32. �rr. VI, 16, 3. � ������ (VIII, 13, 4) ����������� �������������
�������. ���� ��� ������ ����� � ���� ���� ����, �� ��� ��������,
��� ����� (������), ������ ��� ������������ �����������, ����� �������
������ � ������ �����.
33. �nesikrit., frg. 24.
|
| 276 |
����, ����� ������� ����� ������������ ������ ����������� ����
������.
������ ���������� ���������� ���� �� ���� ����������� � �������
����� 325 �. �� �. �. [34]. ������ ���������� ������ � ����������
����� � �����. ����� � ����� ����������. ������ ����� ��� ������,
�� ������� ����������� ���������, ���� ���������. ��� ���� �����
� ������ ���� �� �������� �� ����. ������� ������� ������ �����
�������� �� ������ ������� ������ ���� � ����� �������. �� ������
������ � ���� �������, ����� ��������� ������� ���������� � ����������
������� �������� ���� �� ������� �, ����� ����, �� ������ �� �������.
���� �� ��� �������, ��������� ����������� ������� �������� ��
���������������. ���������� � ���� �� ������ ����������. ��� ��������������
�� ����� ���������� �� ��� ������������ ��������, �������� ��
���������������� � ������ ����������.
� ������
��������� ��� ��������� ������������� ������������ ������ ���������
�� ����� �� ������. ������� ������� ���� ������� ����������� ������
������� ��������������� ����� � �������� �� � ����������. �����
����� ������� �� ������� �������, ������� ������������, ���������������,
������������, ���������� � ������������ ������. ����� �������
��������� ����� �������� ������������. ��������� ������ ��������
������� �������� �������� ����� �������� ����� � ����������� ��
� �������. �������� �������� � ������ ������� �������������� ������,
�������������� �� ������, � � �����������, ������ � ����� � �����
� ����. �� ��������� ���� �����, ����� �������� ����� ����� ����
��� ��������� ������ ������� ������� �������. ������� �������
���� �������� �� ����������� ����, ��������������� ���� �����
������� ��������� �� ���������� �����������.
����� ���������� ���� �� ���� ���� �������, ��� �� �������������
������� ������ ����� ����������, � �������������, � �� ��� ��������
�� ������. ������ ���������, ��� � ������ ������� ��� ������,
���� �� ������� ����� � ���������, � ������ � � ������. �����
�� � ���������� �������� ����� ������������ ����� ��� ����� ����
����� ����� �����.
���� ��� �� ������������ ����������� �������� �������������� ��������.
����� ��� ������ ���� ������ � ���������� ������������ ����� ��
������ � ����������� �����. ���� ����� ��������� ������. ������
������ ��� ������������� ������� ������ ���� ���� ����� �������
����� � ����� ��������. ������ ��������� ��������� � ������� ������,
�������� ��������� ��������� ����� ���������� �������� ���������.
��� ��������� � ������� ������� ����������� ���� ����� ���������
�� ����, ����� �������� ������� �������� ���������������. ���
������� ���� ������� ����� ��� � ������ ��������, �. �. ������
�� ������. ��-����-
|
|
|
__________
34. Strab� XV, 692. ��. � �������� (Al. LXVI, 1), � �������� �����
���������� �������������� ����� �������� (� ������ �� ����). �������
������� ��� ������, ����, ��������, � ���� ������� � �������.
|
| 277 |
����, �� ������ � ����� �����, ����������� �� ������ �������,
� �������� ������ ���-���� ��������. �� �� ���� ������� ���� ��
��� �������� ��������, ������� �������� �� ��� ������� ��� �������.
������ �� ������� ���������� �� ������������ ������ ������ ��������
�� �����.
����������� �� ������������ ������, ���� ��������� ���� ���-��
������������� ���� ��������� ���� � ������. ����� ������������
������� ���������� �� ���� ������ ���� �������� ���������� � ��������
���� [35]. ������� ���� ����������� ��� � ������ ����. �� ����
���������� ������ �� ������ �� ���� ������� ��� �������. ���������
������ �������� ����� � �������� ���������� � ������ � ��������
����: �������� ������ �������, ���������� �������� � �����������
������. �� ������ �������� �������� ������, � ������ ������� �������
������������ ����. ��������, ��� ���� ������������ ���, �� ��
�� ��� ���������� ���������� ������. ��� �� ��� � ��� �����, ���������
����� ���-�������� ��������, ������� ����� ����� ����� �� �����,
� ����. ������������ ����� ��������� ����������� ����������� ���������
�������. ��� ��������� �� ���, ��� ������� ����.
��� � ������ ���� ����� ����, ��� ������ ������������ ��� �����������
�� ���������� �����������. �� ������ ���� ������ ������ ��������
������. ���� ������ � ���������� ������ ������� ���� ����� ��
����, ��� ������� � ������� ������ ��������. ����� ������������
���� �������� � ����� �������� �� ������� �������, ����������
��������� �� ����� ����. ��� ������ � ������ ����� ������� �����.
������� ���������� �������� ��� �������, ��, � ����� ���������,
���� �������� ��������, � ��� ���� ��������� �� ����. �������
���������� ������������� � ������������ �� ����������� ���� ��������.
����� ���� ����� ����� �����������, ������� ������ ����� ��� �������
�����: ������� ������������ ���� � ������ � �����������. ������
������ ���� ������ ������� ����� ��������� ������� ������� ���������
����� �� ��������. ���� �������� ������� �������� ��� ����� ����
�� �������, �������� �������� �� ����� �������� ���� � ����. ������
��������� �� ������� ����� ��������� ������, � ������ ������ ����
������. �� ��������� ���� ������� ���-���� ������� � ��������
�������. ����� ���� ����� ������ ������ � ����� �� ����� �������
������ � �������� ����. ����������� ������� ������� �� ������
����: ����� �� ���� ����� �����. ��� ��� ��� �����, � �������
�� ������. �� � ����� ���� �� ����� ���� ����� �������� � �������.
������ ������ �� (������ ������ ���������: �����, ���� � �������
������. ���� ������ �������� ��������� � ����� ������������ ������.
�����-�� ����������� ���� ��������� ����� ���, �� ����� �� �������
����������� ���� �����. ������� �������� ��� ������� ����������
����������� ������������� ���������, � ������ ����, �������� ��
�������� ���� ��������������� ����� �������� ����� ������� ����������
����. ������� ���, ������, ������� ��������� � ����������� ��
������ � �� ���� ������� ���������.
|
|
|
__________
35. Di�d. XVII, 104,1; �rr. VI, 18 � ��.; Curt. IX, 9.
|
| 278 |
��������� �������� � �������, �� ������ ��������������� ������������
����� ������������. �����������, ��� ��������� ����� ������ �����
����� ������, �� ����� ����� �� ��������� ���� �� ����. ��� ����
���������� ����������� ��� ���������, ��������� ������, �������
��� �����. ����, ����� ��������� ����� ����� ��������� � ��������,
��������� ������������ ���� �������� �� ���. �� �������� ���������
����� ����� ������, ����� ��� ��������, � ����� ������� �����
�������������� �� ������ ������. ����� ��������� ����� ���� �������.
��� ����������� ������������ ���� ������� ����� ���������� ��������.
� ������� ���� ���� �������� �������������� �������� � �������
�������. �� ��� ������� ������ ���-��� � ������� �����. �������
���� ��������� �������� ������� �������� (������). ������, ��
���������, ��� ����� �������� �����-�� ��������. ������, �������������
� �������� ���� ���� �� ��������, �� ������� ���, ������ ��� ����
� �������� [36]. ������ ���, ��� ������� ������, �������� ���������������.
���� � �������� �� ������� ����� ������ ��������: � ���-������
��� ���� ������ �� �����, � ����� �������� ���� � ������-�������.
��� ����� ���: ����� ���������������� ����������� �� �����.
����� ���� ���� �����, � �������� �� ���������� � ����� ������������
����������. ���� ���� ����� ������, ���� �������� ������, ���
���� ����� ������� ������� �������������� � ���� ��� �����. �����
� ��������� ������� ����� �������� �����. ��������� ��������,
��� �������� ������ ����� �������� � ������� ����������� ��� �����������
�� ������.
����������� �� �������
���� ������ � �������� ������ ������ ������� � ������ � ������
������, ���� � �� ���������� � ����������� �����������������.
���, ������ ������ ���������� � ����� ������ ����� �� ���� �����������
������������. ��� ���������� ��� � ������ � ��������� ��������
���������: �������� ������ ���������� ������� ��� � ���� �����
� ������. ����� ��������� ����������� �������, ������������, ���
��� ��� ����� ������������ ����� ���� �� �����, �� ������ �� ��
������� � �� ����������. ����� �� ��� ����� �� ����������, �������
��� ���� ��� ������. ����� ������� ��������� ��������� ����������
� �����, ���� ���������� �� ����������� ������� �������. �� ����������
������������ ���� �� ����������� � ���� ���� ������� ������ ��������.
��� ����������� ���� � ����� ������ �� �����, � �� �� ������ �������.
�������� �������� ���� ������ �����. ����� ����� ������ � ��������,
��� ��������� ��������� �����������; ��� ����� ��� ��� ����� �������
����. ����� �������� ������������� ����� �� �������, ���� �����
����������, ��� ��� ������ ���� �������� ������, � �� ���� �����������
������ ���������.
|
|
|
__________
36. Onesikrit., frg. 12 � ��.
|
| 279 |
����� �������������� �������� � ������� ��������� �� ��� ������,
���� ��������� ����������� ������� �����������, � ����� ��������,
��������������� �� ��������. ���� � ��� � � ����� �� ��� ��� ��
�������� �������������,���� � ������ ���������� ������� �����
��������������� ����� ����� [37]. ������ �����, �������, ���������
�������� ������ �� ����������� �������������� � ���������� ���
��������, �� ��� �������� �����. �� ��� �������� ���� ��������
� ����� [38]. ��������� �������� � ������ ����� � �������� ����������
������, ���� ��������� �����������. ��� ��������� ���� ������������,
�� ��������� ���� ������. ����, �� ��� ������, ������ ����������,
������ ��� ������� �����, ������ ��������� �������� ���������
�����. ������� ����� ��������� ����. � ������ ������ ���������
�����������, ����� ���������� ����� �������������� ����������,
�� ����� � �������� ����������. � ���� ��������� ��������� ���������
����� ���� � ��������� �����. ��� �� ����������� ������,��� ��������
������������, � ������� � ������������ ����. ��������, ���� ��������
� ��� ����� ������ ������������ � ����� � ������� ����� �����������,
��������� ������� ��������, ������ � ����� �, ������ ������ ������������
��������, ������������, ����� �� ��� �� � �����. ����������� ����
�������� ���, �������� ��� ������������-����������, ������� ��
������ ����� ������� �������� ����� �� ���������� ����� ������������
� ���� ����.
������, ������������ �����, ����������� � ���, ����� �� ������
��������� ������ �� �������� � �����������, �� � ������������
����������� ��� ��������� � ����� ���������� ����������� ��������
�������� ���� � �����. ��� ���� ��������, ��� ���������� ������
������������ ����� ������� � ������ ������ ���������� ����, �������
���� �� ����� ������� ����� ���� ������, ����� ������������ �
�������� � �������� ��������������. ������ ��������� ��������
����� ��������� ������, ���� � ����� ������� ������� ����� ��
��� ���� � ��������� � ������. ��� ������� � ����, ��� ��� ��
����� ���������� ���� ����� ����; � ������ ����� �� �����������
� ������. �����, ��� � �� ��������, ������� ���� ������ ����,
�� �������� ��������� �� � ����� �����������. ��������� ���������
����, ��� ���� ��������� ����� �������, ��, ��� ���������� �����,
��� ��� ��� � ���������� ����������� ��������� ��, ��� �� �������
�� ����, �� ���������� [39]. �� ��������� �� ��������������� ��������,
�� ���������� �������� ������������ ���������� ����� ��������
� �������� � ���������� � ������ ������� ���������. ��� ������
���� �������������. ����� �������� ��������� ������������ � �
����� �������. ������ �� �����, ������ �������� ������, ������������
���������� �������.
��������� ��� �� ����� ���� ���������� ��� ����� �������, �����
�������� �� ���� ��� ����� ��������������� ���������������. ����
�� ���� ����������� ���������� ��� ����� �������. �� ���� ����
����� ������� ������, � ��������� ���� �� ������ ���� ���. �����
��������, ��� �����, � ������� ��������� ������� � ����������
����������, ������������ ������������ ����
|
|
|
__________
37. �rr. Ind., XX, 8; ��.: �rr. Ind., XXIV, 6, ��� �������, ���
���������� ����� �����, ������������� �� ��������, ��������� �����������,
����� ���������� �������.
38. �rr. Ind., XX.
39. N��r�h., frg. 3.
|
| 280 |
��������� ���� � �������. ������, ������, ��������, ��� ������������
������ ���� ���� ������� ������������ ������ ����.
� ����� ���� 325 �. �� �. �., ��������� �� ����� ��������� ������,
��������� �� ����� ������� ������� �������. ������� ��� ��� ��
�����. ���� �������� �� ��������� ������, � ������� ������ ���
����������� ������ ��������� � �������. ����� ������ .��������
������ ���� ������, ��� �������� ����������� �����. �������������
������ ������� ������� ��� ������� ������. ��������� ��������
�������� ���� ������� ����������, � �������� ������� ��������
�������������� ��� �����. ���� �������� ���� ����� ������� � ����
������� �����, ���� �������������� �������� �������� ������������
����� ���������.
������, ����� ���������� ��������� �� ��������, ��� �� �������
������� ��������� [40]. ������ �� ����� ���� ��������� �����,
�� ��� ��� ��������� ����� �� ���������. ��������� �������������
��� ����� ����������� �� ��������� ��� �����, �� �� ������� �����.
�������� ����, ����������� ����� � ����� ������ ������ ���������
���������. ����������� ��������� ��������� ��������� ������, �
��� ��� �������������� ����������� ����� ������. ����� ��� � ������
�������� ������ ���� �� �����, � ������������ ������ ���������
��������� ������ �� �����. ����������, ����� ����� �� ������������
�� ������ ����� � ����� ����������� �����. ��� �������, �����
�� ������� ������ ������ �������� �� ��������� ����. �� ��� ���������
������ �� ������. ������� ��������� ���� ����������� ������� ���
�������. ����� ����������. �������� �������� � ���� ����������
��������. ������� ���������� � �����, ������� ������ ����������,
� �� ����������� ����������. ���, ��� ������ � ����� �������,
��� ������� �� ������: ��� ����� ������ ���������� �� ���� �������.
������� ���������� �������� ������, � ������ ����������� �����
���. � ������ ��� ���� ������� � ��� �������� �����. ����� ������
������� � ����� �� ���� * , ��� �������� ��������� ������. ����������
� ��������, ��-�� ��������� ���-�� � �������� ����� ������ � ��
����������� � ������ �����, ���������� ��� ������. ������, �����,
������ � ������ ������� �����. ���� ���� � ��������� �������,
�� �� �� ��� ������ ������** . ���� � ������� �������. ����� ������
����������� �����������.
�������� �� ��� ��������, ������ ���������� ���������� ���� ����������.
��� ����������, ��������, ���������� ����� ����������, �����������
����� �������, ��� ��������� �����. ������� ����� ��������, ������
����, � ����� ������� �������. �� ��������� ��� ������� ���������
������� � ��������� �������. ����������� ����� �������� ����������
�� �������� �������, �, ���
|
|
|
__________
40. �rr. VI, 22 � ��.; Strabo XV, 721 � ��.
* ���� � ����� ������, ������������ ������ � ������.
** �. ��������� � 1957 �. ��� ������� �������� ��������� ��������
������ ������; ��� �� ��������, �������������� ����� ������� ���������
�������� ����, ��� ����������� ������������ � ������� ���������
����� ������� ��������� ������ � �������� �������.
|
| 281 |
������ �������������� �����������, ��� ���������� �� �� �����,
��� ��������� �������� ����.
������ ��������� ������� ��������� ����� � ����������. �� ���-��
���� ����� ������ ��� �� ������. ������� ���� ��������� � �������
������ ������ ����� � �������� ��������� ��� �� ������ �� ���������.
�� �������� ����� ������� ������; � ���������� �������� ��������
���� ��������� ��� �����������. ����� � ��������� ���� ��������
������ � ������ �����. ����� ��� �� ����� �������� ������� ������.
��������� ����� � ������� ��� ��������� ������, �� ���� ��� ��������
������� �� ���. �������� ��������, �� ������� ����� �� ����� ��������
��� ����, ����� ����� ����, ��� �� ����� �� ������� �� ����.
���������� ���� ����������� ����� ����� ���� ����������� ��, �
������� ��������� �� ���������. ������ �������� ���� � �������
��������, ������, �������������� � �������, ����������� �����.
���������� � ����� ������������� ����� �� �����. ���� ��; ����������
������ ��������� �� ������� �������� ��������. ��������, ��� ��
�� ��������� ������� ������� ������� ����� �������, �� ������
������� ������ � ������. ������� ������������ ����� �������������
������ � ��� ����������, ����� ���� ��� ��������� [41]. �� ������
��� ���������� ��-��������: ���������� ������, ���������� �������,
���� �����������, ������ ���������. ����� ������ ���������� ����
�������� �������� ������, � ����� � ���� ����, �� ��������� �����������-��������
�������� � ��������� � �������� �� ����� �� ��������. ��������
������� ��������. � ����� ������ 325 �. �� �. �. ������, �� ��������
�������������� ���������� ���� �� �����. ����� �������� ��� ����������
������. ����� ����� ���� ��������������� ��������������� �� ����������
���������������� ������������, �� ���������������� ��������� �
��������. � �������� ����� ���������� ���������� � ������� �������.
���� �� ������� ������ ������� ���������, � ������ ������� �����
���������� ����. �������� � ��� ������� ���������� ������� ���������
� ������ ������� ��������, ����� ��������� ���������� ������������
�����. ����� ������������� ���� ��� ���������. ����� �� ��� ����������
������ ����, �� ���������� ����� ����������� � ����������� �������.
��-��������, ��� ��������� ��� ������� ����, ���� � ������ ����������
������ ������ ���������� ����� �����, �� ����� ����������� ������
� �������� ����� ������� �������� ���� ���������� ���� ����������
� ��� ����������� ���� [42].
���� ����� ���� ������ ��������; �� ���� ���������� ������ ���������
������. ���� ����� ��� ������ ��� ����� �� �������. ������� ����������
��� ������������� �������� ����� ������� ��������� �������. �������
�������� � ����� ���������� �� �������� �� ����. ������, ����
� ����� ������ �������, ��� ���� �����. ������ �� ���� ������
������?
� ���������������� ������������ ����� �������� ����� �� ������
����������� ������, ��� ��� ������������� ��������������. ���������
��������� �� ������� ����� ������ �� ����������
|
|
|
__________
41. Plut. Al., LXVI, 4. �����, ��������, ����� � ���� �� ��� ������,
� �� ��� �����, ������� ��� ���������.
42. �� ��������, �� ���������, ��-��������, � ��� �� ���������
(�rr. VI, 28, 1 � ��.). ������ ����������� ������ � ������ ��������
(Curt. IX, 10, 24; Di�d. XVII, 106, 1; Plut. Al., LXVII).
|
| 282 |
��������� � ��������� ������ ����. ������� �������� ��������
����� � ���� ��� � ����� �������� � ������� ������ �������-���������
�������� � ������, ������������� �������� ������ ��������� [43].
������ �������� ������ ���, � ��������� ����������� ����������
��������. ���� ����� ������� �������� ����� �������. �����������
���� ����� ������� � ���������, �������� ����� � ����, ������������
������. ��������� ������������ ����� ������� � ������. ���� ��
������� �������� ����� � �������� ����, �� ������� �� ��������
������ ����������, ������ ���������� ��� �� �������� �����, ���
������� �������� ������ ����. ����� ����, ����������� ���������
������ ��������������, ��� ��������� ������� ����� �� �������
���������� � ������. ��������� �������� ����������� ������ ��
��������������� ���������, � �������, ������������ �����������:
��������� ������ � ��������� ������. ������ �� ��������, ��� �����
��������� ��������� �� ����, ��� ��� ���� ��������.
����� �������, ���� ������������ ��������� ��������, ��� �������
����� � �����. ���� ���� ��� ���������� ����� �������� ������
���������������. ��� ���� � ����� ������. ��� ����� ����������
� ��������� � ������� �� ���� ������������� ����� ��������������.
����� ������ ����� � ������ ���������� ������������. ����� ��
�������� ������������ ����� ���� � ���������� � ������, ������
� ������-������ �����, ���-��� ���������� ���������� ���������
� ������� ��������. ��� ������������ ��� ��� � ����. ����� �����
�� ������ ����� ���� ����, ����������, �� ������������ ��������.
�� �������� ����� ���� ����������� ���� � �����. ��� ���������
� �������� .�����, ���� � ������ �������, ����������� �� ������
�����. ����� ��������� ������� ������, ������������ �����, � ��������
����� � ������ �����. ���� ���� ������� ����� ����� � ��� �����,
��� ��� ��� ���� ��� �������� ����. ����� �������������� ���������
�������, ��� ����� ����� �������� �����, ���������, �������, ���������������
������ ����� � ����������� ����� ���������� ����� ������� �����.
��, ����� ����� ���� �������� �����, ������� �� ������ ���� �����������
��� ����� �����������. ��������� ������������ � ���� ������� ������
��������� ����� � ������, ����� ��������� ���������� �� ������
�������� ������.
�������� �� ��� ���������, ����� ������ ���� ����� ������� ���
������ ������ � �������� �� ����� ������������� ������� ��������.
��������, ������� ����������, ����� �� ����� � ���� �������� ��������
���������. ������� ������ ����������� ��, ��� ���� �������� ���
�� �������: ��� ���� ����������� ������. ��� ������ ������ �����������������,
��������� ����� ������� � ������ � ���� �������� ���������� ����������.
�� ����� ������������� �����, �������� � ������� ���� � ���������
������ � ��������� � ����������� ���������. �������� �� ��������
�������, ����� ���������, ��� ������ ������ ����� ����� � ���������������.
������� �������� �����������, � ��������� ��������� �������� ��������
�������� ���������.
|
|
|
__________
43. �rr. Ind., XXI, 1; ��.: Str�b� XV, 721.
|
| 283 |
���� ��� ������ ������ ������ ��������. ����� �� ������� �������
���� �������������� ���� � ����� ���� ������� ��������������.
����������� �� ������ ����� ��������� �������������� ������� ����������.
������ ���� �� ������� � ���������, ����� ��� ������, ��� ����
����� � ���� ���� ���� �� ���, � ������� ��������. ����� ��������
������� ������ � ������ � ������������� ������ � ����������� ���������������
���������� �� ������ ����. ��������� ��� ����, ��� ���� ������,
� � ������� ���������� ���� �������� ���� ���������. ���������
����� �������� ���������� ������������ �� ������ � �����. ���
���� ������ �����������, ��������, ���������, ��� �� ���� ������.
����� ��������� ������ ������, ��� �������� ������� � ���� ������������:
�� �����, ��� ��� ���� �������� � ����� �� ����� �����. ������
����� ���� ��� ���� �������� ������, ����� ���� ��������. ��,
��� ����������� ���������� ������������ ����� �������� ��������������,
���� ���� �� ������������ �����, �� ��, ��� �����, ��� ���� �
������, ������� �� ���, �������, �� ��������� ��� ������� ������
� ���� ���� �������� �����. ��� �������� ���������� ��� ������,
��� ������ ��� ���� �����. �� �������� � ���� ������� ����������
����� � ���������� ������. ������ ��������� �������� ��������
����������� � ������������� ����������. ������ ������� �������
� �������� �������, � ������� ������� ���� ���������� ���������
�����, ��� ��� ��� ���������, ��� ������ ��� ������� ���� �� �����������
����.
����� ����������� � �������� � ����� �� ����� ����������� ���������.
�������� ��� ����� �������, �� ����������� � ����������� �����.
������� ����� �������� �������� �������. � ����� �����, �������������
������, ���� ���������� ���� ��������� ������. ������ ���� ��������
�� �������) � �������� � ���������� � ����� � ����� � ��� �������.
��� ��� ��� ��������� ����, ��������� ����� ������� ����� �����
����� �����, ������������ �������. ��� �� ��������� ����� �����
����, ����� ���������� � ���������, � ����� 324 �. �� �. �. ���
����������� � ����� [44].
����� �������, ���������� ��������� �����������. ��������� ���������������
������� ������ ����������� ����� � ������������ ��������� ������
�������. ������, ������, ��� ������� � �������, �� ������� ��������
���������� ����������� ����� ���������. ����� �������������� �������
������������� ������� ��������� ��������. ������� ���� � �����
���� ��������, ������ ����� �� ��� �������� ����� �� ������ �
����� ��������� ������������ �������. ���� ���������� ������ ���
�� ������ � ����� ��� �� ����������. ��� ��������� ����� ���������
� �����, �� �� ���� ��������� �� � ���������� ������, � � �������
������. ����� �������, �������, ������������� ����������� �� ����������
������, �� �����������. ����� ���� ������� �������� ������ � �������,
�� �������� ��� ������ ��������� ����������. ���� ��� ����������,
�� ����������� ������� �� ����.
|
|
|
__________
44. �rr. VI, 28, 7.
|
| 284 |
����������� � ���������� ������
���� ����������� ���������� � ����� ���������� ������, �� ��������
������� ���� �������� ��� ���������� �������: ����������� �����
���������� �� �������� � ���������� � ������������ �������. ����
���������� ����� ��������������� ��������, ������� ������ �����
���� ��������� ��������� �������. ��� �������� � �������� �� �������.
����������, ��� � ����� ������� ������ ����� ���� �������� � ���
������� ��� ���� ��������, ����������� ����� �����. ���� �����
��� � �������, ��������� ��������� ����������� ������, ��� ���,
�������� ����������� �����������, �� ���-���� ��������� � ��������
������ ����� �������. �� ��������� ������ ��������� ������ ���
����������� ������ ��� ������������ ����� ������� �������� �������������
�������������� � ������������� ������������ � ���� ������ ����
��� ������ ��������, ��� ���������. ���� �� ���� ����������� �������
����� �� ����� ����������� ������, �� ������ ����� ��� ����� ���������
�� �� ������. ���� �� ��������� ���������� �������� ���������������
�������� � ��������, �� �������� �� ������� ����� ������ �����
��������, � ��������� ��������� ������ ������ ����� �� ������
����� ���� ������� � ������ ������.
� ���������� ������� ������� �������� ��� � ���������. ��-������,
������, ������������ ���������� ����� ������: ����� �� ��������,
������� ���������� ������� ������ �������� �������, ������������
����� �����. ��-������, ��� ��� �������, ���� ������� ��������
����� � ��������� ������ ������. ��� ��� ���������� ������������
��������� �, ����� �������, ���� ������������� ����. ��
����� ���������� ������ ��������� ������� ������� ���������.
� ������� � � ��������� ������ ��� ��� �������, � �����
�������� ����������, ���� ������ ������� � ������ �����
�������� � � �������� �� ��������. �����-�� ������ ����
���� ����������� ������� ��� ��������, �� ������ ��� ���������
��� ����� ���������� �������� �������� ����. �������� �������������
������: ����� �� ������ ���� ������������� �������� � ��������
�� ��� ���� ���������� ��? ���, ����� ����, ��� ����� ���
���������� ��������������, ����������� �������������, ��
������� ������ ����� ������� ��� ���������? ������� ���������
������������� �������� � �������, ����� ���� �������� �����
���� ����������� � ����������. ����� ����, ��� ����������
�������� ��� �����? ������ ���������! ��� ���� ����������
����������, � ��������� ���������� ���������� �� �� ��������
����. ���� � ����������� ������, ������������, ����������
���������, �� �� ��� �������� ����� ������� ����� �������������
����������.
|
|
|
|
|
 |