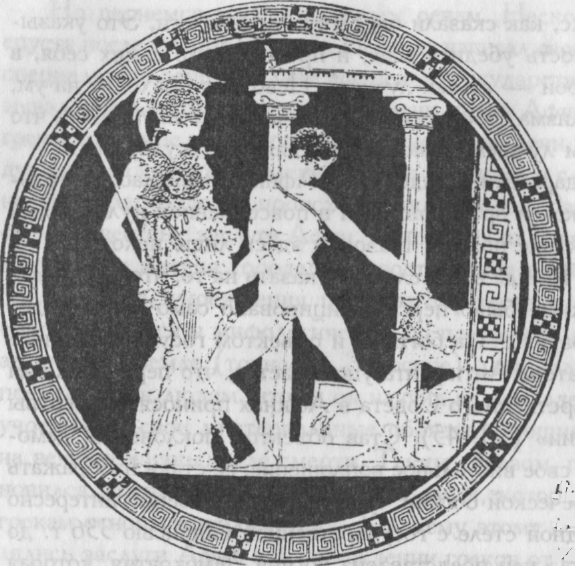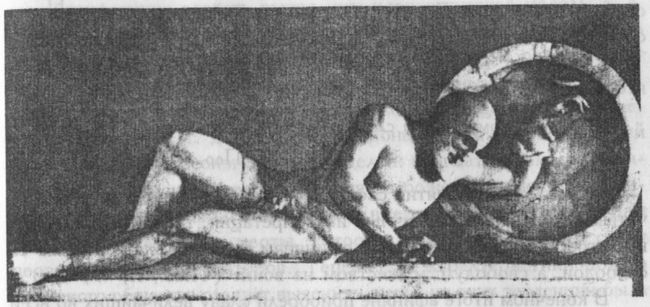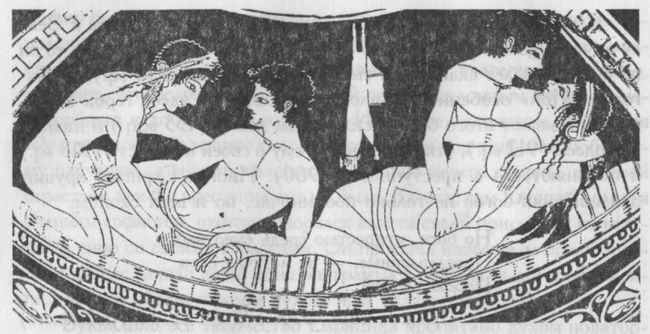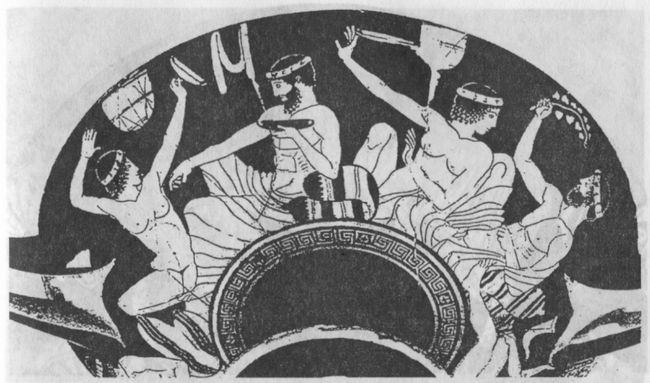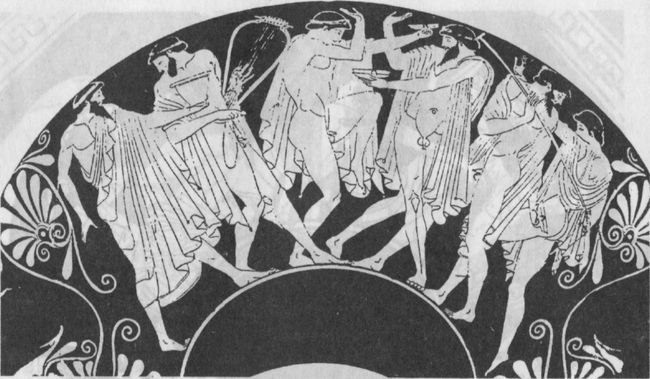406
2. ДЕМОКРАТИЯ И МИР ИДЕЙ
а) Новая идеология
Под идеологией мы здесь понимаем как политическую пропаганду, так и господствовавшую в обществе того времени систему социальных ценностей и стереотипов, определявшую сознание большинства людей. Начнем с официальной пропаганды, т. е. с того, как государственная идеология обосновывала превосходство новой политической системы. Здесь наше внимание естественно обращается на Геродота — первого певца афинской демократии. Именно
407
у него впервые появляется и сам термин «демократия», который хотя и употребляется им в известной мере как синоним к слову «равноправие» (ισονομία), но означает уже новую форму власти, противоположную тирании76. Рассказывая о падении Писистратидов, реформах Клисфена и победе афинян над войсками вторгнувшихся в Аттику соседей, Геродот делает следующий вывод: «Ясно, что равноправие77 для народа не только в одном отношении, но и вообще — драгоценное состояние. Ведь пока афиняне были под властью тиранов, они не могли одолеть на войне ни одного из своих соседей. А теперь, освободившись от тирании, они заняли безусловно первенствующее положение. Поэтому, очевидно, под гнетом тиранов афиняне не желали сражаться как рабы, работающие на своего господина; теперь же, после освобождения, каждый стал стремиться к собственному благополучию» (Hdt., V, 78). Как известно, Геродот был близок Периклу и разделял его идеи. Поэтому можно предположить, что в его словах отчетливо звучит официальная пропаганда Перикловой демократии. Как и положено пропаганде, она не очень считается с реальным положением вещей и перевирает или передергивает факты: Геродот явно «забывает» о том, что во время правления тирании афиняне жили мирно и на них никто не нападал, а предпринятые тиранами военные экспедиции на Наксос и в Сигей имели полный успех. Не говорит он и о том, что тираны не только не принуждали сограждан к военной службе, но, наоборот, отстранили их от нее и всячески поощряли их личное экономическое благополучие.
В этой связи наибольший интерес для исследователей представляет другой пассаж Геродота, в котором рассказывается о политической дискуссии среди лидеров персидской знати, после того как они свергли с престола самозванца Лже-Смердиса (Hdt., III, 80-83). Захватив власть в свои руки, заговорщики начали совещаться о будущем устройстве Персии. Они обсуждали три возможные формы
76 Об истории слова «демократия» см. подробно: Debrunner А. Δημοκρατία // Demokratia. Der Weg zur Demokratie bei den Griechen / Hrsg. K. Kinzl. Darmstadt, 1995. S. 55-69; Raaflaub K. 1995. S. 8 f., 49 f.; Meier Ch. 1995. S. 125-159. Эти же авторы отмечают, что лозунг исономии был перенят демократией от боровшейся против тирании аристократии (см. также: Исаева В. И. 1994. С. 95-97).
77 В оригинале здесь стоит слово ισηγορία (исегория), т. е. «свобода слова», «равное право слова», которое Геродот также использует в качестве эквивалента к слову «демократия» (Raaflaub К. 1995. S. 9).
408
власти, из которых им предстояло выбирать, т. е. демократию, олигархию и монархию. Геродот приводит их речи в защиту каждой из них. Демократия описывается как свобода, противоположная монархической форме правления, основанной на своеволии и насилии; олигархия представляется как власть «лучших» в противовес демократии, как господству разнузданной и негодной черни, не имеющей ни разума, ни врожденной доблести; наконец, монархия, в речи будущего царя Дария, предстает как наилучшая форма власти и противопоставляется олигархии, при которой взаимное соперничество «лучших» порождает смуты и кровавые распри в государстве. Победила точка зрения Дария, решающим аргументом которого было утверждение, что монархия является традиционной властью для Персии и что нарушать отеческие обычаи нельзя.
Исследователи единодушно признают, что эта дискуссия персидских вельмож сочинена самим Геродотом, который в такой форме отразил актуальные для Греции политические дебаты78. Его рассказ был рассчитан на греческую и прежде всего афинскую публику и содержал в себе хорошо знакомые ей политические реалии79. Главной целью этого сюжета было показать преимущество демократии перед другими формами правления и особенно перед тиранией, как наихудшей из них80. Дарий обосновывал монархическую форму правления древней персидской традицией и для греков это должно было быть еще одним аргументом в пользу демократии, т. к. они уже давно не имели царской власти и не были скованы подобной традицией. Поэтому греки могли выбирать, руководствуясь только рациональными соображениями. Геродот показывал единственный, по его мнению, правильный вариант решения. Его логика вырисовывается вполне отчетливо: для него монархия в Греции означает своеволие тирании, жестокость которой он старался подчеркнуть при каждом удобном случае (см., например: Hdt., V, 78, 92). Олигархия же дискредитировала себя постоянными смутами и распрями. При таком раскладе самым естественным выбором, с точки зрения Геродота, становится демократия.
78 Фролов Э. Д. Факел Прометея. Очерки античной общественной мысли. Л., 1991. С. 151 слл.; Bringmann К. Die Verfassungsdebatte bei Herodotus 3, 80—82 und Dareios' Aufstieg zur Königsherrschaft // Hermes. Bd. 104. 1976. S. 267 ff.
79 Подробно см.: Bringmann К. 1976. S. 271 ff.
80 Ibid., S. 273 ff.
409
Из сказанного можно сделать вывод, что главным аргументом официальной идеологии Афин было противопоставление демократии тирании. При этом тирания максимально очернялась, а демократия — максимально идеализировалась. Спустя несколько десятилетий после Геродота эта аргументация почти в таком же точно виде встречается в трагедии Еврипида «Просительницы». Гам легендарный царь и «основатель» афинской демократии Тесей также противопоставляет свободу при демократии рабству при тирании (см. ниже, 2 б). Следовательно, можно считать, что здесь мы имеем дело с устойчивым идеологическим стереотипом, активно использовавшимся официальной пропагандой в V—IV вв. до н. э.
Еще один образец афинской политической пропаганды мы находим у Фукидида в его знаменитой речи Перикла, произнесенной на похоронах афинских воинов, павших в первый год Пелопоннесской войны (Thuc., II, 36—45). После краткого вступления, воздавшего дань должного великим предкам афинян, Перикл перешел к прославлению афинского государственного строя. Начал он с того, что афиняне сами изобрели свой совершенный государственный строй, ни у кого не позаимствовав, и что афиняне сами являются образцом для других, а не подражателями. Главными заслугами нового строя он называет то, что городом управляет большинство народа, а не горсть людей, а также то, что в частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам, причем социальное положение ни для кого не является препятствием к занятию должностей. Затем Перикл начинает воспевать образ жизни демократических Афин и особенно такие достижения, как свободу, введение новых разнообразных развлечений для наслаждения в повседневной жизни, занятия искусством и науками, политическую активность граждан и публичное обсуждение государственных дел. В конце концов он делает вывод, что Афины благодаря демократии стали школой всей Эллады и что, защищая свой город, афиняне защищают нечто большее, чем просто родную землю.
Другой вариант надгробной речи Перикла представлен у Платона в диалоге «Менексен». Там Сократ утверждает, что эту речь сочинила жена Перикла Аспазия, и вкратце излагает услышанное от нее содержание речи (Plat. Menex., 236 b — 241 е). В этой версии сперва восхваляется благородное происхождение афинян как коренных жителей своей страны. Затем утверждается, что афинский демократический строй на самом деле является аристократическим правлением, т. к. при нем властью обладают наиболее достойные и лучшие. В основу такого общественного устройства полагается ра-
410
венство всех по рождению, т. к. афиняне происходят от одной матери — земли и, следовательно, являются братьями, которые не признают отношений господства и рабства между собой. Равенство происхождения определяет равные для всех права, основанные на законе. Поэтому афиняне подчиняются друг другу только в силу авторитета, доблести и ума. Далее демократический строй противопоставляется тирании и олигархии, при которых все граждане делятся на господ и рабов. В заключение превозносятся заслуги Афин в отражении персидской агрессии.
Конечно, платоновская версия речи Перикла вызывает обоснованные сомнения в ее подлинности и заметно отличается от той речи, которую приводит Фукидид. Однако несмотря на внешние различия, обе речи очень близки по внутреннему содержанию. Скорее всего, они обе отражают официальную идеологию афинской демократии в период ее наивысшего расцвета. Они показывают, что пропаганда велась по двум направлениям: во-первых, демократия противопоставлялась другим формам власти, и прежде всего тирании, по схеме: «свобода — рабство»; и во-вторых, прославлялись заслуги и достижения демократии, из которых важнейшими считались свобода и равноправие. При этом впервые была сформулирована мысль о равенстве людей по рождению, хотя и доказывалась она софистически, через происхождение от общей матери — земли (кстати, видимо, не случайно именно софисты были наиболее активными популяризаторами идеи природного равенства людей). Таким образом, в древних Афинах были открыты две фундаментальные, основополагающие идеи демократии: политическая свобода и равноправие81.
Основные тезисы новой идеологии широко тиражировались официальной пропагандой и пережили самого Перикл. Особенный упор делался на идее равенства всех людей от рождения, т. к. именно она лежала в основе демократии как таковой. Тем самым отрицалось врожденное преимущество благородных и все граждане оказывались равны. По сути дела, это означало победу эгалитарного принципа над элитарным, т. е. победу «равенства по количеству» над «равенством по достоинству». Таким образом, древний, еще догомеровский идеал общинного равенства вдруг нашел воплощение в идеологии новой политической системы. Правда, достигнутое равенство было чисто теоретическим и никто не
81 Подробно об открытии политической свободы см. специальную работу: Raaflaub К. Die Entdeckung der Freiheit. München, 1985.
411
называл новую систему «веком Кроноса», т. к. демократия не произвела имущественного уравнения и материальное неравенство сохранилось. К тому же в Афинах было довольно много недовольных новыми порядками, особенно в среде аристократии, которая лишилась своих преимуществ «по достоинству» и была обречена оставаться в оппозиции, осуждая демократию за уравнение «дурных» и «добрых». Поэтому популяризация идеи равенства людей по рождению носила полемический характер и это хорошо видно в одном отрывке из несохранившейся трагедии Софокла «Терей»:
Одно мы племя: всех на один образец
Отец и мать родили нас и нет в природе,
Кто б благородней был другого.
(fr. 132/591 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)
Еще одним излюбленным аргументом официальной идеологии было утверждение, что при демократии правит закон, а при монархии и олигархии — произвол правителей (Eurip. Suppl., 432 sqq.; Aeschin., 6). Показательно также, что в платоновской речи Перикла путем софистических ухищрений проводится мысль о приверженности афинской демократии традиционным ценностям, так что демократия оказывается вдруг аристократией. Видимо, народная молва вовсе не преувеличивала красноречие Перикла и он действительно мог доказать, что белое это черное и наоборот. В этом проявилась важнейшая черта Перикла — политическая демагогия. С помощью этой демагогии и своего личного влияния ему в течение пятнадцати лет удавалось держать Афины под своим контролем, изображая при этом свою власть как власть народа. Благодаря ораторскому таланту и при помощи своих сторонников он умело управлял афинской народной массой по своему усмотрению. Очевидно, что именно это обстоятельство особенно импонировало историкам в фашистской Германии, которые уподобляли Перикла своему фюреру, а афинскую морскую экспансию сравнивали с морской стратегией третьего рейха82. Видимо, не случайно и советской власти так импонировал образ демократического «народного вождя» — Перикла. Таким вот странным образом самые мощные в истории человечества тоталитарные режимы ощущали свое внутреннее родство с перикловой демократией...
82 Об интерпретации Перикла в фашистской Германии см.: Will W. Perikles. Rowohlt, 1995. S. 8.
412
Но вернемся к официальным речам. Несколько десятилетий спустя после смерти Перикла Исократ написал свой «Панегирик» — специальную речь во славу афинского государства. В ней он доказывал актуальное для своего времени право Афин на первенство в греческом мире. Во многом структура этой речи повторяет предыдущие образцы. Восхваление города начинается с указания на древность и благородство происхождения афинян. Затем перечисляются все известные заслуги Афин, из которых на первое место ставится культурная миссия города: распространение наук, искусств, ремесел, законов, учреждения пышных торжеств и т. д. Эта миссия обосновывается и мифологически: по преданию, Деметра именно в аттической земле (точнее, в Элевсине) дала злаки Триптолему и послала его к людям, чтобы он научил их земледелию. Там же она учредила и свои мистериальные обряды, дающие людям надежду на вечную жизнь после смерти. Таким образом, город афинян становился важнейшим носителем культуры, который дал остальным грекам основы цивилизации83. Ко всему этому конечно же, добавлялись заслуги Афин в освобождении греков от угрозы персидского порабощения. В конце концов Исократ превзошел самого Перикла: на основании всех перечисленных заслуг он назвал Афины школой уже не Эллады, но всего человечества (Paneg., 50).
Еще одна речь подобного рода встречается у Демосфена, — по сути дела ученика Исократа. Это надгробная речь в честь воинов, павших в битве при Херонее. Как по форме, так и по содержанию она следует сразу двум образцам: фукидидовской речи Перикла и исократовскому «Панегирику». Здесь тоже возносится хвала доблести павших воинов, прославляются их великие мифологические предки и родной город — Афины. Причем основными достоинствами афинского государства называются три вещи: во-первых, автохтонность его жителей (4); во-вторых, тот факт, что земледелие появилось впервые в Аттике (5); и в-третьих, демократический государственный строй (25 sq.). Отсюда можно сделать вывод, что официальная пропаганда афинского государства от Перикла до Демосфена строилась по одному шаблону, заданному самим Периклом. Причем такое настойчивое превознесение заслуг нового строя кажется слишком навязчивым и указывает на некоторую неуверен-
83 Как мы помним, Триптолем и элевсинские мистерии получили афинскую «прописку» при тиранах, сделавших элевсинский культ общегосударственным. Следовательно, афинская демократия продолжила идеологическую политику тиранов и создала миф об афинской культурной миссии.
413
ность или комплекс, как сказали бы сегодня психологи. Это указывает на необходимость убедить всех, и прежде всего самих себя, в том, что новый строй — самый лучший. Невольно приходит на ум, как в эпоху социализма советским людям ежедневно внушалось, что они живут в самом лучшем, самом справедливом государстве...
Впрочем, государственная идеология Афин проявлялась не только в речах политиков и ораторов, но и в повседневной культовой и политической практике полиса. Назовем здесь лишь некоторые из этих проявлений. Прежде всего следует указать на то, что при новом политическом режиме было персонифицировано само понятие демократии. Демократия стала богиней и объектом государственного культа. В речи оратора Антифонта упоминается, что перед каждым заседанием государственного Совета в Афинах приносятся жертвы «во имя демократии» (VI, 45). Став объектом поклонения, демократия получила и свое визуальное воплощение: ее стали изображать в виде обычной греческой богини. В этой связи особенно интересно изображение на одной стеле с государственной надписью 336 г. до н. э. (прил. 28). На ней представлена богиня Демократия, которая увенчивает венком сидящего на троне пожилого бородатого мужчину, олицетворявшего собой афинский демос. Это значит, что вместе с демократией был персонифицирован и народ — в виде царя, правящего под эгидой божества. Следовательно, данный образ, запечатленный резцом скульптора, представлял собой наглядную религиозную легитимацию демократической власти и одновременно являлся средством визуальной пропаганды. Бросается в глаза искусственность этой легитимации: оба персонажа не имеют никакой опоры в греческой мифологии и в традиционных религиозных представлениях. Они выдуманы с очевидной политической целью, что свидетельствует уже не столько о благочестии афинян, сколько о формализме их официальной религии. Известно также, что в 333/32 г. до н. э. Совет постановил установить статую Демократии на агоре и потом перед ней стратеги ежегодно приносили жертвы84. Так само понятие демократии превратилось в объект поклонения и стало своеобразным фетишем и символом афинского государства.
Другим проявлением новой идеологии в государственной религии стало культовое почитание тираноубийц — Гармодия и Аристогитона. Несмотря на то что эти тираноубийцы на самом деле ничего не сделали для установления демократии, они были провозглашены ее родоначальниками и первыми борцами за свободу. Поэтому
84 Hansen Μ. Η. 1995. S. 71.
414
Рис. 26. Тесей убивает Минотавра. Вторая половина V в. до н. э.
в Афинах был учрежден их официальный культ 83 и в их честь был сооружен памятник — скульптурная группа, которая типологически, своей композицией и патетикой, предваряет знаменитую композицию «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве (см. прил. 29). Потомки I армодия и Аристогитона удостоились высшей почести в государстве, — они получили право обедать в пританее вместе с жрецами и другими отличившимися гражданами (см. надпись: IG3 1, 131) 86. Рядом с могилой тираноубийц был похоронен Клисфен — еще один основатель афинской демократии (Paus., I, 29, 6). Бренные останки «отцов демократии» были окружены особым почетом. Таким образом, в Афинах был создан общегосударственный идеологический культ политических героев.
После падения тирании и реформ Клисфена в аттическом искусстве стали заметны идеологические сдвиги. После 510 г. до н. э. на вазах все чаще изображается древний афинский герой Тесей, который постепенно вытеснил образ Геракла 87. В противовес «мо-
85 Ibid., S. 32.
86 Inschriftliche Gesetztexte den frühen Griechischen Polis / Hrsg K. Hallof. Köln, 1993. S. 45-47.
87 Schefold K. 1946. S. 63-67, 73 ff.; Walker H. Theseus and Athens. Oxford, 1995. P. 50 ff.
415
Рис. 27. Триптолем. Ок. середины V в. до н. э.
нархическому» Гераклу Тесей стал олицетворением демократии и даже был провозглашен ее основателем88. Примечательно, что Тесею, также как и Гераклу, покровительствовала богиня полиса — Афина (см. рис. 26). В то же время по-новому в искусстве начал интерпретироваться миф о Триптолеме: он теперь предстает уже не как царь, как это было во время тирании (рис. 24), а как обычный герой. Он вдруг резко помолодел и стал юношей (рис. 27). Эта перемена, как показал П. Шпан, имеет под собой политическую подоплеку: Триптолем теперь стал символом молодой демократии. Он по-прежнему изображается как податель зерна, но его новый имидж символизирует уже не благотворительность тирана, а культурную миссию афинской демократии 89. С такой трактовкой вполне согласуется исократовский «Панегирик» — там культурная миссия Афин обосновывается именно на данном мифе. Кроме того, в аттическом искусстве уже с начала V в. до н. э. стала акцентироваться проблема взаимоотношений личности и коллектива, причем упор делался на коллектив и вскоре на вазах появились изображения совещающихся мужчин. Специалисты связывают это явление с результатами клисфеновских реформ 90. Отмечается также, что в первую половину V в. до н. э. афинское
88 Ruschenbusch Ε. 1958; Walker Η. 1995. Р. 51 f.
89 Spahn Р. Der Missionar Demeters. Mythen, Mysterien und Politik im Athens Getreide // Journal für Geschichte. 1980. Bd. 5. S. 22 f.
90 Knittlmeyer B. 1997. S. 28 ff.
416
изобразительное искусство имело ярко выраженный воспитательный характер — оно создавало идеальные образы, которым должно было подражать юношество91.
Помимо официальной пропаганды существовала еще и официальная система ценностей, своего рода образцовая мораль, которой должны были следовать добропорядочные граждане. Наиболее яркое представление о ней мы можем получить из рассказа Геродота о посещении Солоном лидийского царя Креза (Hdt., I, 30—35). Согласно этой легенде, Солон, издав свои законы и покинув Афины, прибыл в столицу Лидии Сарды и был там принят в царском дворце. Крез оказал гостю радушный прием и, показав ему все свои несметные богатства, спросил Солона, кто, по его мнению, самый счастливый человек на свете. Царь ожидал, что гость, потрясенный увиденным богатством, назовет его имя, но вместо этого он услышал рассказ о некоем афиняне Телле. Этот Телл был зажиточным гражданином, жил в цветущее время своего города, вырастил прекрасных сыновей, видел цветущими своих внуков и нашел достойную кончину на поле боя, защищая свое отечество. Этот рассказ возбудил любопытство Креза и он продолжал допытываться, кто же самый счастливый человек после Телла. Тогда Солон рассказал ему историю о братьях Клеобисе и Битоне. Оба они были победителями в атлетических состязаниях, а однажды, когда их мать, жрица Геры Аргосской, должна была срочно явиться на празднество в честь богини, а быки еще не вернулись с поля, братья сами впряглись в повозку и, пробежав большое расстояние, вовремя доставили свою мать в святилище. За это мать вымолила у богини для своих детей «высшее благо, доступное людям». Ее молитва была услышана и Гера даровала обоим братьям блаженную смерть во время сна, а сограждане поставили им статуи за то, что они проявили высшую доблесть. Таким образом, по мнению Геродота, божество дало ясно понять, что смерть для людей лучше, чем жизнь (Hdt., I, 31). Далее геродотовский Солон принялся еще поучать Креза и сделал следующие выводы: во-первых, счастье человека не заключается в богатстве, и во-вторых, человека можно назвать счастливым только тогда, когда он прожил счастливую жизнь до конца дней своих и нашел блаженную смерть. Царя рассердили эти нравоучения Солона, но спустя некоторое время, когда его царство было захвачено персами, а сам он оказался на костре, он вспомнил слова Солона и оценил его мудрость. В этот момент осознания истины вмешалось божество и Крез был спасен.
91 Ibid., S. 111, 117.
417
Легенда эта носит явно искусственный характер: Солон не мог встретиться с Крезом уже потому, что оба они жили в разное время. Считается, что данная история, скорее всего, была сочинена самим Геродотом на основании устных рассказов о семи мудрецах92. Солон был одним из этих мудрецов и к тому же афинянином. Поэтому рассказы о его мудрости должны были быть очень популярны в Афинах в конце VI и первой половине V в. до н. э. Об этом свидетельствует рисунок на одной аттической вазе начала V в. до н. э., на которой изображен Крез на костре, т. е. кульминационный момент всей истории, когда становится очевидной правота афинского мудреца (см. прил. 30).
Для нас геродотовская легенда интересна тем, что в ней в концентрированном виде содержится общественный идеал того времени. Назидательный характер легенды свидетельствует о ее идеологической направленности, поэтому есть смысл посмотреть, чему она учила афинян и других греков. С одной стороны, в ней противопоставляется простота и умеренность греков варварской заносчивости и роскоши, а с другой стороны, она подчеркивает первостепенное значение полисного коллектива для греков и показывает новый гражданский идеал93. Образ Телла и есть образ идеального гражданина, который должен быть состоятельным, оставить после себя доброе мужское потомство, отважно сражаться за родину и найти почетную смерть на поле боя. Здесь главной целью и высшей ценностью человеческой жизни провозглашается служение индивида коллективу. Человек служит городу своим достатком, своей воинской службой и своим потомством, которое обеспечивает ему замену в боевом строю. К тому же этот идеал является наглядным воплощением идеи меры, которая со времен Солона заняла центральное место в греческом мировоззрении. Средний гражданин стал воплощением нового социального идеала золотой середины, который пришел на смену аристократическому идеалу харизмы и личного первенства. Идея меры занимает важнейшее место во всем труде Геродота: он приводит множество поучительных примеров о том, как хороша умеренность и как губительна заносчивость и дерзость (см., например: Hdt., I, 34 sq. 207; III, 39 sqq.; 120 sqq.). Мотивировка же у него вполне гомеровская: человеку
92 Regenboden О. Die Geschichte von Solon und Kroisus. Eine Studie zur Zeitgeschichte des 5 und 6. Jahrhunderts // Herodot / Hrsg. W. Marg. Damstadt, 1962. S. 395-399, 401.
93 Ibid., S. 382.
418
нельзя превозноситься, т. к. этим он навлечет на себя зависть богов и скорую гибель (см. гл. 1, 2 г). Легенда о Клеобисе и Битоне выражает и религиозный аспект нового гражданского идеала: в ней подчеркивается ничтожество человека перед богами, от воли которых зависит его жизнь. Вместе с тем это означает и необходимость почитания богов. В утверждении Геродота, что смерть для человека лучше, чем жизнь, на свой лад пересказывается мысль Феогнида о том, что для человека лучше всего было бы вообще не родиться, а уж если родился, так скорее умереть. Очевидно, эта идея стала уже весьма популярной в Греции. В целом же есть основания полагать, что легенда о Клеобисе и Битоне была заимствована Геродотом в Дельфах и отвечала духу аполлоновской религии94.
Итак, у Геродота мы находим уже сформировавшийся гражданский идеал нового общества и образец для подражания. Примечательно, что в этом идеале совместились элементы старой и новой идеологии: от гомеровских времен был унаследован образ гражданина-воина, а идея «золотой середины» и меры во всем была уже продуктом новой эпохи. Представленная Геродотом система ценностей стала массовой и, если можно так выразиться, была принята на вооружение официальной идеологией афинского государства. Это хорошо видно в творчестве классиков афинской драматургии. Для иллюстрации этой мысли здесь достаточно будет привести только несколько примеров. Эсхил в «Просительницах» говорит о ничтожестве человека перед богами и прибегает при этом к известному гомеровскому образу:
Бог, но в твоих руках Весы.
Что может человек
Без воли твоей?
Что смеет?
(822—824 / Пер. А. Пиотровского)
Подобно Геродоту Эсхил призывает блюсти меру во всем и предупреждает о каре богов за пресыщение и надменность (Agam., 376 sqq.). Его представления о смерти тоже близки к геродотовским: он называет смерть освободительницей от страданий (Suppl., 802 sqq.). В «Эвменидах» Эсхил провозглашает политический идеал среднего социального порядка:
94 Ibid., S. 383 ff., 389.
419
Зло и подневольным быть;
Зло и в своеволье жить.
Средний путь,
Между двух крайностей — лучший...
(526-530 / Пер. В. Иванова)
В творчестве Софокла заметно прямое влияние тех же идей, что и у Геродота, он, чуть ли не дословно повторяя, вкладывает их в свои произведения. Так, например, в «Царе Эдипе» хор поет о губительности человеческой спеси и пресыщения благами сверх меры (872 sqq.), а заканчивается эта трагедия повторением солоновской мудрости из геродотовского рассказа:
Не считай счастливым мужа под улыбкой божества
Раньше, чем стопой безбольной рубежа коснется он.
(1529-1530 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)
Еще раз эта мысль звучит в «Антигоне» (1155 sq.). В таком же духе драматург размышляет и о бренности человеческой жизни и неизбежности судьбы (613 sq.; 133 sqq.). Жизнь человека полна горя, она лишь призрак и пустая тень (Ajax, 124 sqq.) и поэтому в конце жизни Софокл с горечью повторяет слова Феогнида о том, что человеку лучше не родиться, а родившемуся — скорее умереть (Oed. Col., 1225 sqq.). Гражданский идеал Геродота поэт выразил в еще более яркой форме:
И кто отчизны благо ценит меньше,
Чем близкого, — тот для меня ничто...
Отчизна — вот та крепкая ладья,
Что нас спасает...
(Antig., 182 sq.; 188 sq. / Пер. Φ. Φ. Зелинского)
Подобные мировоззренческие идеи мы в обилии находим и у Еврипида. Он тоже неоднократно сокрушается о бедствиях человеческой жизни и делает вывод, что человек уже по рождению обречен на страдания (Fedra, 206 sq.). Единственным средством уменьшить количество страданий поэт считает соблюдение меры (Ibid., 261 sqq.). Одна из любимых тем Еврипида — непостоянство и переменчивость судьбы, которая в один миг разбивает казавшееся прочным счастье человека и бросает его в пучину бедствий (см., например: Heraclidae, 863 sqq.; Hecuba, 283 sqq.; 352 sqq. и др.). Поэтому в уста одной своей героини он вкладывает те же самые слова, которые мы уже слышали от Геродота и Софокла:
420
Нет, никого из смертных не дерзай
Счастливым звать, покуда не увидишь,
Как, день свершив последний, он уйдет.
(Andrem., 100—102 / Пер. И. Анненского)
При всем этом Еврипид стоит особняком среди других афинских драматургов, его творчество отличается новизной и представляет собой уже новый этап развития греческой мысли. Еврипида уже никак нельзя назвать выразителем традиционной идеологии, скорее наоборот, он был ее разрушителем, новатором, человеком нового типа. Тем не менее, как мы только что видели, его отношение к жизни было вполне традиционным, унаследованным от известных предшественников.
Таким образом, афинские драматурги одновременно с Геродотом и с художниками пропагандировали новую систему ценностей и новый гражданский идеал. В основу этого идеала была положена идея меры и поэтому в нем объединились в один комплекс представления о смысле человеческой жизни и политические стереотипы нового общества. Тем самым задавалась образцовая модель, которой должен был следовать порядочный гражданин, — ему предлагалась готовая, «правильная» система взглядов на мир, общество и свое место в нем. Он должен быть «средним», помнить о бренности своего существования, не гордиться и не возноситься над другими, соблюдать во всем меру, превыше всего ставить благо отчизны, любить свободу и демократию. В случае опасности он должен храбро сражаться за родной город и почитать за счастье умереть в бою. Этот последний аспект стал особенно актуальным во время Пелопоннесской войны и поэтому Перикл в своей надгробной речи представил павших воинов как образец для всех афинян (Thuc., II, 43, 4).
Справедливости ради следует отметить, что данная система ценностей по сути своей не была исключительно афинским явлением, так как основные ее положения разделялись и другими греками. В своей основе это была общегреческая полисная идеология. В архаическую эпоху во многих городах Греции развивались сходные духовные и социальные процессы. Благодаря этому созданные новой эпохой идеалы и стереотипы имели общегреческое значение. Всеобщая популярность изречений семи мудрецов, происходивших из разных городов Греции, служит тому хорошим подтверждением. Выражаемая их мудростью этика гражданского общества стала основой новых социальных идеалов и ценностей. Поэтому вполне естественно, что основные геродотовские идеи обнаруживаются также
421
Рис. 28. Умирающий воин. Скульптура из храма Афины на острове Эгина. 510-480 гг. до н. э.
и у беотийского поэта Пиндара, творчество которого уже тогда было общегреческим достоянием. Он тоже пел о ничтожестве человеческой жизни и уподоблял ее сну тени (Pyth., VIII, 95). Поэт утверждал, что полное счастье недоступно никому из людей, а пресыщение пагубно (Nem. VII, 51 sqq.; Istm., III, 4). Человек должен соблюдать меру (Ol., XIII, 46; Nem., V, 40) и стараться избежать зависти богов (Pyth., X, 20; Istm., VII, 40). Политический идеал Пиндара состоял из трех основных частей: благозаконие, слава в гражданских делах и неподвластность душ граждан богатству (Nem., IX, 29—35). В то же время постоянным мотивом поэта была заветная героическая слава и в этом он продолжал следовать древней гомеровской традиции. Вполне в духе этой традиции в Греции того времени повсеместно распространяется идеологический образ воина-гражданина. В искусстве создаются многочисленные изображения битв и отдельные композиции сражающихся и умирающих воинов. Особенно показательны скульптурные изображения умирающих воинов с фронтона храма Афины на Эгине (см. рис. 28). Они показывают почетную и славную смерть настоящих героев, которые встречают смерть легко и спокойно: на их лицах нет ни тени страдания, они умирают счастливые от сознания, что им выпала честь прекрасно умереть за родину.
При всем этом нельзя упускать из виду, что совпадение афинских и общегреческих стереотипов распространялось только на морально-этическую сферу. В области политических идеалов афиняне были новаторами. Это они первыми начали говорить о среднем пути в устройстве общества и они же впервые провозгласили
422
свободу как основополагающий политический принцип. Афиняне и сами осознавали себя первооткрывателями свободы и гордились этим. Так, например, в эсхиловских «Персах» на вопрос Атоссы о том, кто такие афиняне и кто ими правит, хор с гордостью отвечает:
Никому они не служат, не подвластны никому.
(242 / Пер. С. Апта)
Правда, само понятие свободы оставалось довольно расплывчатым и допускало различные интерпретации. Например, Перикл в надгробной речи предложил афинянам отождествлять счастье со свободой, а свободу с мужеством на войне (Thuc., II, 43, 4).
В конечном итоге афиняне приобрели славу величайших во всей Греции новаторов. Фукидид в речи коринфян перед спартанцами называет афинян скорыми на выдумки сторонниками новшеств (νεωτεροποιοί), которые способны быстро осуществлять свои планы (Thuc., I, 70, 2). В речи Клеона Фукидид повторяет эту мысль в более резкой форме: там афиняне называются уже рабами всего необычного и ненавистниками того, что вошло в обычай (Thuc., III, 38, 5). Такая характеристика показывает уже не только политическое новаторство афинян, но и их разрыв с традицией. Поэтому Фукидид противопоставляет Афины и Спарту как две противоположности: Афины ориентируются на будущее и склонны к новшествам, а Спарта обращена в прошлое и держится традиции; афиняне подвижны, а спартанцы медлительны (Thuc., I, 70, 2—4). Эта фукидидовская рефлексия, вкупе с общеизвестными историческими фактами, показывает, что афинское общество перестало быть традиционным обществом, ориентированным на обычаи предков. В Афинах была создана новая и самодостаточная идеологическая система, идеалы которой помещались в настоящем и отвечали потребностям дня. Вот почему за образец воинской доблести Перикл предлагал принять не традиционные примеры из мифов о прошлом, а современных ему павших афинян. По традиционной схеме мышления эти воины должны были уподобляться великим героям прошлого, славы которых они оказались достойны, но по новому мышлению Перикла, они были героями сами по себе и сами стали образцом для других. Когда Перикл излагал перед афинянами свой план войны со Спартой, его аргументами были не справедливость войны и не вера в помощь богов, а трезвый расчет соотношения сил и продуманная стратегия войны. Все это означает, что в Афинах произошла смена некоторых фундаментальных стереотипов мышления и сформировалась новая идеология.
423
Итак, можно сделать вывод, что идеологическая модель, т. е. система ценностей демократических Афин содержала в себе по старой традиции две противоположные тенденции. С одной стороны, она унаследовала весь комплекс традиционных ценностей, т. е. почитание богов, воинскую доблесть, семейные ценности, уважение к старшим и т. д. С другой стороны, в ней развился целый комплекс новых идеологических моделей: прагматизм вместо идеалов, трезвый расчет вместо упования на божественные силы, ориентация на сегодняшние потребности вместо подражания образцам прошлого, т. е. все те черты, которые принесли афинянам славу первых в Греции новаторов. Теперь для характеристики нового афинского общества следует выяснить, какая из двух тенденций была доминирующей в демократических Афинах.
б) Религия и мировоззрение
Мы подошли ко второму ключевому пункту нашего исследования. Сейчас нам предстоит сделать беглый обзор мировоззрения афинян периода расцвета демократии. В отличие от гомеровских времен здесь перед нами предстает пестрая картина разнообразных, зачастую противоположных процессов и явлений. Для описания их потребовалось бы отдельное сочинение и поэтому мы ограничимся только тем, что обозначим в общих чертах основные элементы.
Как уже сказано, основу религиозной картины мира всех греков составляли гомеровские и гесиодовские сказания о богах и героях. Все это оставалось в силе и в классических Афинах. Точно так же и вся вообще система ценностей была унаследована от гомеровской эпохи и составляла официальную норму. Но это была только одна сторона медали, которую можно обозначить как традиционную тенденцию в развитии афинского полиса. Другую сторону медали составляла новаторская тенденция, т. е. целый комплекс новых процессов и явлений, которые приходили в противоречие с традицией и формировали новое мышление и новое мировоззрение афинян. Эта тенденция постепенно выбивалась на лидирующие позиции и начинала определять состояние умов в демократических Афинах. Поскольку традиционная позиция нам уже известна, рассмотрим сейчас именно эти новые явления.
Выше уже говорилось о том, что недостаточность и примитивизм гомеровской религии в архаическую эпоху стимулировали духовные поиски в трех направлениях: в мистицизме, философии и в этике. Что касается мистицизма в классических Афинах, то мы
424
не располагаем достаточной информацией об этом. Известно только, что по-прежнему большой популярностью пользовались элевсинские мистерии, значение которых неуклонно росло и которые в это время уже приобрели общегреческий характер. Несмотря на общий закат орфического и пифагорийского движения, отдельные их секты продолжали существовать и пользовались некоторым влиянием, масштаб которого сегодня не поддается точному определению. Скорее всего, это влияние было невелико и затрагивало только небольшую часть общества. Правда, иногда эта часть была весьма заметна, о чем свидетельствует, например, творчество Эсхила: несмотря на его консерватизм в вопросах религии, у него тем не менее отчетливо проявляются новые тенденции и подходы. Так, например, в «Орестее» он представляет гомеровского Зевса как орфическое пантеистическое божество, начало всего сущего:
Зевс изначальный — причина всему,
Все — от него, чрез него, для него,
Что смертному дано без воли Зевса?
Что на земле не богом свершено?
(Agam., 1486-1489 / Пер. С. Апта)
В другом месте Эсхил даже высказывает сомнение в том, что этот великий всеобъемлющий бог носит имя Зевса. Он называет его Зевсом только для того, чтобы иметь возможность обратиться к своему единственному утешителю (Agam., 161—165). Это совсем не тот бог, которого знала гомеровская религия, это настоящий царь вселенной:
Один отец, зачинщик, рода сеятель,
Старинный предок, великан,
Творец щедрот, благ зиждитель, бог Зевс.
Бог никому не подначальный,
Владыка сильных и великих,
Ни на кого не глядя снизу вверх, царишь.
Промолви — все сотворено!
Помысли лишь в сердце — все свершилось!
(Suppl., 592-599 / Пер. А. Пиотровского)
Так Эсхил преподносит афинянам новое монотеистическое понимание бога. Это было нечто невиданное: новая концепция бога из потемок тайных учений вдруг выносится на свет дня, прямо на сцену. Отношение Эсхила к смерти также свидетельствует о влиянии на него мистических учений: подобно «посвященным» он верил, что загробная жизнь будет лучше нынешней:
425
Неправы люди, думая, что смерть страшна!
Она — от всех недугов исцеленье.
(Filoct., fr. 145/353 / Пер. Μ. Л. Гаспарова)
Возможно, на Эсхила оказали влияние и пифагорейцы — в одном фрагменте из его несохранившейся трагедии «Паламед» основой мудрости названо число (fr. 133/182). Как бы то ни было, Эсхил обогатил гомеровскую религию новой мистической религиозностью и вынес ее на суд зрителя. Факт примечательный сам по себе — он говорит о начавшемся религиозном брожении в Афинах.
Принципиально иное отношение к олимпийской религии проявляла философия. Она не пыталась обогатить эту религию новыми учениями, а разрабатывала свою собственную альтернативную модель мировоззрения, построенную целиком на рациональных умозаключениях, в которых уже не оставалось места мифам о богах и героях. В середине V в. до н. э. эта философия добралась наконец и до Афин. Первым философом в Афинах стал Анаксагор из Клазомен. Он был завершителем натурфилософской традиции, последним мыслителем, которого занимали исключительно вопросы мироздания. Вполне в духе времени Анаксагор давал природным явлениям естественнонаучные объяснения. Гром и молнию он объяснял столкновением и трением облаков, он создал свою теорию солнечных затмений и утверждал, что солнце — не бог, а огненная глыба. По его мнению, все в природе возникает из мельчайших частиц — «семян», которые содержат в себе качества всех вещей. И хотя в качестве перводвигателя всего философ предложил разум — Нус (Νους), т. е. мыслящее божество, его картина мира получилась вполне материалистической. Анаксагор вошел в вольнодумный кружок Перикла и некоторое время пользовался большим успехом. Однако традиция была еще сильна и не сразу сдала свои позиции — в какой-то момент ей удалось взять реванш. Против Анаксагора было возбуждено судебное дело по обвинению в религиозном нечестии и ему пришлось срочно покинуть Афины.
Тем не менее временная победа традиции не могла переломить общую тенденцию развития и вернуть общество к «преданьям старины глубокой». Разрушение традиционного мировоззрения продолжило новое направление в философии — софистика. Софисты были бродячими учеными-риторами, которые переезжали из города в город и везде учили искусству красноречия за деньги. Они первыми сделали интеллектуальный труд профессией и хорошо на этом зарабатывали. Это определило и прикладной характер их уче-
426
ния и моральную беспринципность. Их не интересовало устройство космоса и моральные основы жизни. Их подход отличался жестким прагматизмом — они учили доказывать любое положение в зависимости от надобности и не считаясь с соображениями правды и справедливости. Они многое сделали для развития риторики и диалектики, но при этом преследовали своекорыстные цели. Традиционные представления о богах равно как и традиционную этику софисты начисто отвергали. Наибольшее влияние они оказывали на писателей, ораторов и политиков. Из числа афинских драматургов больше всего их влиянию был подвержен Еврипид. Он известен своим критическим, даже издевательским отношением к олимпийским богам. У него есть свой взгляд на вещи:
Нет, божество само себе довлеет;
Все это сказки дерзкие певцов.
(Her., 1346 sq. / Пер. И. Анненского)
Не верит Еврипид также и в «сказки» о загробной жизни — он считает, что людей там ждут не муки Аида, а нечто лучшее, чем нынешняя жизнь (Hipp., 189 sqq.). Но отсюда еще не следует, что Еврипид был адептом тайного учения — наоборот, он смеялся над «посвященными» и открыто называл орфиков плутами и шарлатанами (Hipp., 953 sqq.). Его мировоззрение отличает рациональный характер и поэтому в одной его трагедии звучит хвала софистическому красноречию:
...Вот кому служить
Должны бы все, за плату дорогую
Учителей сводя, чтоб, тайну слова
Познавши, убеждая — побеждать!
(Hecuba, 815—818 / Пер. И. Анненского)
Итак, в определенных кругах софистика пользовалась немалым успехом, и, как видим, пропагандировалась даже со сцены афинского театра. О последствиях ее воздействия на умы афинян будет сказано ниже.
Таковы вкратце новые идейные течения в классических Афинах, однако этим вопрос еще не исчерпан. Дело в том, что духовные поиски, попытки постижения основ бытия и философские концепции всегда оставались уделом лишь считанных единиц. Поэтому необходимо выяснить, каким было состояние духа в массах. Естественно, что одна и весьма широкая часть простых афинян безусловно оставалась верна старой традиции и по-прежнему верила в
427
гомеровских богов. Именно эта часть населения была настроена против Анаксагора и против софистов, она же голосовала и за смерть Сократа. Вместе с тем в афинских массах ширились и стремительно набирали силу совершенно противоположные тенденции. Типичными явлениями в Афинах стали безверие и религиозный скептицизм. С одной стороны, это было результатом естественного вырождения гомеровской религии, а с другой стороны, действовал целый ряд дополнительных факторов, способствовавших распространению неверия. Во-первых, это сама демократическая организация общественной жизни, которая, как уже сказано, предполагает секулярную модель власти и опирается не на волю божества и не на божественные установления, а на волю самих людей. Десакрализованная власть предполагает личную ответственность людей и принятие решений на основании трезвого расчета, а не по внушению божества. Именно поэтому Перикл, выступая перед афинянами за свой план войны, оперировал исключительно рациональными соображениями, а не рассуждениями о божественной воле и справедливости. Таким образом, в повседневной практике афинян религия исключалась из важнейшей области жизнедеятельности и это приходило в противоречие с традиционной верой в вездесущность богов. Понятно, что данное противоречие разрешалось отнюдь не в пользу религии. Человек все больше убеждался в своих собственных возможностях и все больше начинал полагаться на свои силы, а не на волю богов. Выбросив религию из политики, люди начинали привыкать обходиться без нее и в повседневной жизни. Результатом этого стал постепенный отказ от традиционных верований и моделей, отказ от традиции как таковой.
Другим фактором, стимулирующим этот процесс, была Пелопоннесская война. Обрушившиеся на город несчастия поколебали веру в божественное покровительство и в заступничество Афины, а масса несбывшихся предсказаний разрушала веру в пророчества93. Война стала своего рода рубежом, ознаменовавшим крах традиционной религиозности. Это хорошо видно даже на примере историков: Геродот, писавший свой труд еще до войны, был уверен в божественном промысле и в непосредственном вмешательстве богов в человеческие дела, а Фукидид, принимавший в войне непосредственное участие, не верил уже ни в то, ни в другое. В его истории боги уже не участвуют и оракулы роли не играют. Все
95 Ярхо В. И. Трагический театр Софокла // Софокл. Драмы / Пер. Ф. Зелинского. М., 1990. С. 472.
428
события для него представляют собой цепочку естественных причин и следствий, а не осуществление божественной воли. Фукидид написал первую просранную историю, в которой больше нет места божественному промыслу и поэтому он считается сегодня первым историком в современном понимании этого слова. Поэтому его труд можно расценивать как очередное свидетельство упадка традиционных верований в Афинах того времени.
Наконец, еще одним фактором стал расцвет софистики, совпавший по времени как с расцветом демократии, так и с Пелопоннесской войной. Софисты очень скоро прославились своей беспринципностью и аморальностью. Само слово «софист» приобрело негативный оттенок и стало нарицательным96. Софистика не была массовым учением, поскольку она была доступна только состоятельным людям, но тем не менее проповедуемое новоявленными «учителями мудрости» новое отношение к жизни, религии, государству и другим людям очень быстро распространялось среди афинян и усваиваивалось если не напрямую, то через третьи руки. Софисты сеяли вокруг себя бациллы религиозного неверия и аморальности. Они брались защищать любую позицию и внушали слушателям безудержный релятивизм. Их любимые идеи об относительности всего и непознаваемости мира приводили к выводу об отсутствии ясной, раз и навсегда данной истины. Поэтому Протагор смог объявить человека мерой всех вещей и подвергнуть сомнению само существование богов. Другой софист — Критий — уже открыто посягнул на основы религии: он учил, что богов выдумали сами люди97. Разрушая основы
96 Первоначально софистами (σοφίσται) называли тех, кто отличался мудростью или мастерством. Затем это слово закрепилось за собственно софистами, т. е. за бродячими учителями риторики и философии, которые брали деньги за обучение. Как только стала очевидна аморальность и нечистоплотность новоявленных учителей мудрости, слово «софист» сразу же приобрело негативный оттенок и стало применяться зачастую как синоним к словам «шарлатан», «обманщик», «лжемудрец». Кстати, Платон, видя пагубное воздействие софистов на состояние морали в обществе, осудил риторику как таковую и решил изгнать ее из своего идеального государства, чтобы с помощью красноречия нельзя было больше доказать неправое дело в суде (Leg., 938 а). О том, что софистическое красноречие действительно применялось таким образом, свидетельствует сатира Аристофана в «Облаках».
97 Речь идет об одном фрагменте сатировской драмы, которую приписывают обычно Критию (Frost F. Faith, Authority, and History in Early Athens // Religion and Power in the Ancient World. Proceedings of the
429
традиционной религии, софисты одновременно подрывали устои общественной морали и нравственности. Софистическая «мудрость» способствовала распространению моральной вседозволенности и беспринципности. С помощью умело составленных речей софисты могли доказать что угодно и ловко оправдывали любые пороки и преступления против нравственности. Вместе с моралью они разрушали и только что созданные гражданские идеалы. Тот же Протагор подверг критике гражданские установления и заявил, что они являются не священными законами, а полными ошибок человеческими установлениями. Таким образом, подход, которым уже несколько десятилетий руководствовались политики, получил наконец теоретическое оформление.
В результате все перечисленные факторы значительно ускорили естественное угасание традиционного благочестия. Первыми на упадок веры отреагировали афинские трагики. В их произведениях довольно много указаний на безверие современников. Уже Эсхил был вынужден выступить с резким осуждением против тех людей, которые утверждают, будто богам нет дела до смертных и до поруганных святынь (Agam., 370 sqq.). Он доказывал обратное, но его выступление означает, что таких нечестиво мыслящих людей в Афинах было уже немало и что проблема эта была уже актуальной. Значительно острее полемика с неверующими звучит у преемника Эсхила — Софокла. Для него потеря веры среди сограждан — уже свершившийся факт и он молит Зевса о вмешательстве:
О Зевс-вершитель, выше всех царящий!
Коли права моя мольба —
Твой взор бессмертный обрати на дерзких!
Уж веры нет Феба гаснущим словам:
Меркнет в почестях народных
Бога-песнопевца лучезарный лик;|
Конец благочестью!
(Oed. rex., 903-910 / Пер. Φ. Φ. Зелинского)
Uppsala Symposium. 1993 / Ed. by P. Hellström, B. Alroth. Uppsala, 1996. P. 83). В этом отрывке развивается учение о том, что богов придумал человек. Следует подчеркнуть, что эти слова звучали с афинской сцены и предназначались всей массе афинских граждан. Если уж автор решился такой «богохульный» атеистический текст вынести на сцену, значит, он уже не боялся расправы толпы и рассчитывал на понимание многих зрителей. Это говорит о том, что атеистические настроения были уже весьма широко распространены в Афинах того времени.
430
Софокл призывает суровые кары на потерявших почтение к богам нечестивцев и уверен, что в будущем их ждет расплата (Oed. rex, 882-894). На примере своих героев драматург хочет убедить сограждан, что пророчества Аполлона всегда святы и правильны и что, если подчас люди не видят их исполнения, это значит только то, что они не понимают их скрытый смысл и напрасно заносятся в своей гордыне и презирают вещие слова (Oed. rex, 947 sqq.; 952 sq.; 966 sqq.). В «Антигоне» Софокл стремится показать, что нарушение божественного закона неминуемо влечет за собой возмездие, а завершает он эту трагедию назидательным поучением о необходимости соблюдать заветы богов (1348—1353).
Примеры можно было бы еще продолжать, но и сказанного вполне достаточно, чтобы понять, насколько актуальна была проблема и как широко в афинском обществе распространилось безверие и пренебрежение к «заветам богов». Эсхил и Софокл своими произведениями пытались образумить сограждан, но, кажется, это им не очень удавалось. Утраченное благочестие уже нельзя было вернуть. Образ мысли афинян при демократии радикально изменился и пришел в противоречие с традиционным мировоззрением. Новое стремительно вытесняло старое и остановить этот процесс было уже невозможно. Даже Софокл поддался общему увлечению и в своей «Антигоне» написал дерзкий гимн во славу человека, которого он вознес выше всех природных сил (333—359). «Антигона» была поставлена в период расцвета Перикловой демократии и неудивительно, что Софокл в это время проникся верой во всемогущество человека98. Однако Пелопоннесская война положила конец его оптимизму. Разорение страны врагами, чума, смерть Перикла, военные неудачи — все это потрясло Софокла. К тому же гомеровская религия не обладала достаточным морально-этическим потенциалом, чтобы объяснить страдания и несправедливость. Вместо этого она предлагала верить в прихоти богов и волю слепой судьбы. Понятно, что в годину суровых бед афиняне разочаровывались в своей религии, начинали винить богов в несправедливости и разуверивались в них. Под воздействием обрушившихся несчастий заколебался и Софокл. В какой-то момент, кажется, пошатнулась даже его вера. В «Филоктете» главный герой, узнав, что лучшие герои погибли и что в войске ахейцев процветают теперь худшие, потрясенный такой несправедливостью, восклицает:
98 Афины в это время расширяли морскую экспансию и поэтому как первый пример всесилия человека Софокл приводит покорение морской стихии (Ant., 335-338).
431
Что тут сказать? Кому молиться? Горько,
Душою в божий промысел вникая,
Самих богов в безбожии винить 99.
(451-453 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)
В «Электре» Софокл уже начал оправдывать нечестие своих сограждан и заявил, что потеря веры естественна, когда вокруг царит несправедливость и зло остается безнаказанным (245—250; 307 310; 1506 sqq.). Это был явный упрек богам и даже обвинение. Впрочем, Софокл не мог до конца поступиться принципами и даже если он и винил богов, то от веры своей не отрекался. Он упрямо продолжал верить в справедливость богов и пытался поддержать эту веру у соотечественников: в той же «Электре» он представил акт возмездия как пример справедливой кары богов (1380 sqq.). Тем не менее под конец жизни Софокл, вероятно, устал от разочарований и поэтому в последней своей трагедии он говорил уже не о справедливости богов, а о неизбежности судьбы и о необходимости каждому безропотно нести посланный ею жребий (Oed. Col., 1778 sq.; 1694 sqq.). Таким образом, Софокл еще удержался в рамках традиционного благочестия, но его сограждане все больше меняли образ мыслей и под тяжестью обрушившихся на город бедствий теряли последние остатки веры.
Произошедший в мировоззрении афинян сдвиг стал особенно заметен в творчестве Еврипида — младшего представителя из плеяды великих греческих трагиков. С одной стороны, Еврипид как будто выступает за сохранение старинных нравственных норм, а с другой стороны, он же их и опровергает. Под влиянием софистики он даже снимает с человека ответственность за моральные преступления и возлагает ее на богов. В «Ипполите» сама богиня Артемида так говорит людям:
...И дивно ль вам
Грешить, когда того желают боги?
(1433-1434 / Пер. И. Анненского)
Здесь явно сказываются веяния нового времени, которые сделали возможным логическое оправдание любого преступления. Если уже начиная с Гомера в греческой литературе укоренилась идея ответственности человека за свои поступки, то теперь эту ответственность
99 В оригинале эта мысль звучит еще жестче: Филоктет заявляет, что он находит богов плохими: «...τους θεούς 'έυρω κακούς» (452).
432
можно было снять, сославшись на волю богов или закон природы — излюбленный прием софистов. Кстати, этот аргумент часто встречается у Еврипида: его Медея в одноименной трагедии, например, заявляет, что человек уже природой создан склонным ко злу и неспособным к добру (407 sqq.). В «Ипполите» служанка, побуждая Федру к прелюбодеянию говорит, что и боги подчиняются любовному влечению, а значит, человеку и подавно нечего спорить со своей страстью, как бы преступна она ни была. Кстати, сам Еврипид, следуя учениям софистов, охотно покорялся власти своей природы и не вступал в спор со своими страстями. Он прослыл известным прелюбодеем и до нас дошла даже одна эпиграмма Софокла, в которой Еврипид назван обольстителем чужих жен (Epigr. Soph., 1).
Буквально все творчество Еврипида пропитано духом новаторства, так что отдельные реверансы в сторону традиции не мешают ему нести со сцены софистические идеи и внедрять в массы новый дух. Его трагедии в совершенно новом свете представляют все древние, овеянные ореолом величественности мифологические образы. Еврипид приземляет, дегероизирует и развенчивает все эти героические образы прошлого и представляет их в приниженно-бытовом аспекте. Для него уже не существуют вечные нравственные нормы и он не верит в целесообразность мира и в справедливость. Мерой всех вещей у него является человек, лишенный всякого героизма, мятущийся и обуреваемый собственными страстями. При этом сильно сказывается и религиозный скепсис. Герои Еврипида часто упрекают богов за причиняемые ими бедствия людям и представляют их в неприглядном виде: боги злы, коварны, завистливы, мстительны, заставляют людей страдать и вообще недостойны называться богами (см., например: Androm., 1161 sqq.; Her., 1306 sqq. и др.). В «Геракле» драматург обрушил едкую и злую критику на самого отца богов — Зевса. Он представил его прелюбодеем и предателем, которому нет никакого дела до людей, и в заключение сделал вывод о бессердечности богов:
Неужто ж олимпийца пристыдить
Придется человеку! Амфитрион
Не предавал врагам сирот Геракла,
Как ты их предал, ты, верховный бог,
Умеющий так ловко все препоны
С пути к чужому ложу удалять.
Друзьям в беде помочь не властны боги:
Искусства не хватает или сердца.
(341-349 / Пер. И. Анненского)
433
В другой трагедии еврипидовский Одиссей обращается к Зевсу за помощью и заявляет, что если Зевс не хочет ему помочь, то он не бог: «Я более скажу, что ты — ничто!» (Cicl., 354 sq.). В трагедии «Ион» особенно досталось Аполлону — здесь герои Еврипида называют этого бога насильником девиц (435 sqq.) и низким любодеем (912 sq.), открыто говорят ему о своей ненависти (918 sq.) и обвиняют его в преступности (960). Иногда Еврипид крушит олимпийских богов не только поодиночке, но и всех скопом:
Но боги, мудростью средь смертных
Прославленные, — те летучих снов
Порою лживей...
(Iphig. in Taur., 570—572 / Пер. И. Анненского)
В конце концов, Еврипид неоднократно в своих трагедиях высказывает мысли о лживости богов, о том, что от них исходит только зло и что они не достойны почитания (см., например: Androm., 1161 sqq.; Hecuba, 489 sqq.; Her., 1129, 1306 sq. и др.). С одной стороны, в многочисленных пассажах такого рода Еврипид разоблачал аморальность богов гомеровской религии, а с другой стороны, в них звучало явное нечестие и отрицание традиционной веры. Уже тот факт, что такие речи были вынесены на сцену, был шокирующим новшеством и даже рекламой религиозного неверия. Такого Афины еще не видели: отрицание веры предков и презрение к богам теперь открыто преподносились на сцене, на той самой сцене, с которой еще совсем недавно Эсхил и Софокл учили афинян благочестию и грозили неизбежными карами безбожным нечестивцам. Это был крах традиции. Творчество Еврипида ознаменовало собой не только крушение старого мировоззрения, но и конец жанра античной героической трагедии100. Впрочем, следует отметить, что Еврипид слегка опережал свое время: большинство его соотечественников еще не успели так модернизироваться, как он, и не оценили его творчество. Поэтому при жизни трагедии Еврипида не пользовались успехом в Афинах — они стали популярны там только после смерти драматурга, когда афиняне уже в большой массе достигли уровня его мышления и еще больше удалились от традиционных верований и взглядов.
Спустя некоторое время, уже к началу IV в. до н. э., безверие в Афинах достигло еще большего размаха. Об этом свидетельствует Платон. Он утверждает, что молодое поколение в его
100 Ярхо В. И. Драматургия Еврипида и конец античной греческой трагедии // Еврипид. Трагедии / Пер. И. Анненского. М., 1969. С. 30, 36.
434
Рис. 29. Любовные игры с гетерами. Ок. 510—500 г. до н. э.
время совсем не верит в сказания о богах (Leg., 887 d; 888 а); многие молодые люди оскорбляют святыни (Leg., 884) или же злословят над священнодействиями прямо у алтарей (800 с). Философ отмечает, что есть люди, которые не боятся ни гнева богов, ни возмездия в Аиде, — они презирают древние предания и законы государства. Даже учения мистерий, возвещающие «высшую истину», не производят на них никакого впечатления (Leg., 881 а). Это значит, что теперь уже и мистицизм не мог сохранить в людях религиозного чувства и противостоять атеизму. Положение кажется Платону настолько серьезным, что он вступает в специальную полемику с теми, кто не верит в богов, и с теми, кто отрицает их участие в людских делах (Leg., 885 а—b). Очевидно, что атеистические настроения в IV в. до н. э. стали обычным состоянием умов.
Секуляризация сознания отразилась и в искусстве. Уже сразу после падения тирании искусство начало профанизироваться ускоренными темпами. Это видно по развитию тематики: художники все реже стали обращаться к изображениям богов и иллюстрированию мифов, но все чаще к окружающей действительности. Теперь их внимание концентрировалось на жизнедеятельности человека и повседневных явлениях. Уже при Клисфене приобрела популярность тема пирушек и любовных развлечений с гетерами (см. рис. 29), а в V в. до н. э. она стала типичным сюжетом многих вазовых изображений (см. рис. 30). Тем самым художники отвечали общим настроениям эпохи: большинство их современников видело смысл жизни в наслаждениях удовольствиями, т. е. в так
435
Рис. 30. Пирушка в компании с гетерами. Ок. 470—460 г. до н. э.
называемых «радостях жизни». Вино, эротика и танцы были основными ценностями этой жизненной модели и все чаще становились объектами изображения (см. рис. 31, прил. 7 а).
Помимо развлечений особую популярность в искусстве приобретали сюжеты на спортивные и бытовые темы. Показательно, что теперь изображается не только «героический» момент спортивных состязаний, но и совсем прозаическая подготовка к ним (см. прил. 31). Бытовой жанр представлен самыми разнообразными сюжетами из повседневной жизни: девушка, готовящаяся к омовению (прил. 32), веселый разговор двух гетер (рис. 32), или, например, рвота после чрезмерной дозы выпитого вина (рис. 33).
Кроме того, в искусстве становится заметна смена женского образа: женщина теперь все реже предстает как почтенная и достойная мать или супруга, а все чаще как вольготно-разнузданная гетера или очаровательная красавица. С женщины теперь снимаются строгие и благородные платья архаической эпохи и ее соблазнительная нагота предстает всеобщему обозрению (см. прил. 7 а). Поводом для обнажения служит изображение богини любви Афродиты, но есть большая разница между обнаженными фигурками Афродиты раннеархаической эпохи и скульптурами позднего классического периода. Она состоит в том, что нагота «героической» эпохи имеет культовый, лишенный чувственности смысл (см. рис. 7 а), а нагота, появившаяся снова в V в. до н. э., носит ярко выраженный чувственный, эротический характер. Поэтому, даже когда
436
Рис. 31. Веселая процессия пирующих (комос). Ок. 485—480 г. до н. э.
художники V в. до н. э. изображают женщину, или ту же самую Афродиту одетой, они искусно используют складки легких облегающих одежд, чтобы еще больше подчеркнуть красоту женского тела и сделать ее еще более эротичной (см. прил. 34)101. Таким образом, изменение парадигмы женского образа в искусстве свидетельствует о двух явлениях: во-первых, об изменении положения женщины в обществе; и во-вторых, о профанизации эстетических ценностей, т. е. о переносе акцента с религиозной идеи в область секулярную, в сферу чувственности и эмоциональности.
Дальнейшей профанизации подверглись и образы олимпийских богов: если в архаику их изображения были подчеркнуто величественны и загадочны, то теперь они предстают в приниженном, приземленном виде, как самые обычные люди, лишенные всякой божественной исключительности и особенности (см. прил. 33). Их образы предельно демифологизированы и очеловечены. Этому в немалой степени способствовало развитие техники искусства: освободившись от религиозных канонов, художники открыли свободу изображения и разнообразие художественных средств. В конечном итоге искусство классического периода служит хорошим зеркалом духовного состояния эпохи и отражает произошедшую в обществе смену жизненных и эстетических ценностей. В контексте общих
101 Подробнее об эротизме в искусстве классической Греции см.: Dierichs A. Erotik in der Kunst Griechenlands. Mainz/Rhein, 1993. S. 14-17, 86 f.
437
Рис. 32. Гетеры за беседой. Конец VI в. до н. э.
тенденций становится ясно, что демифологизация и профанизация искусства были прямым результатом угасания традиционной религиозности в обществе того времени.
Наконец, следует сказать несколько слов и о состоянии общественной этики и морали в демократических Афинах. Здесь ситуация аналогична той, что сложилась в религиозной сфере: официальной нормой оставалась традиционная полисная этика с ее гражданским идеалом служения коллективу, а фактически новые тенденции постепенно ее разрушали и брали верх над ней. Это и неудивительно, ведь религия и этика тесно взаимосвязаны. Все этические и нравственные нормы греков коренились в религии, а с ее упадком начался и упадок традиционной морали. Упадок религии, атеизм и софистический релятивизм неизбежно вели к отказу от прежней этики и к падению морали и нравственности. Потеря веры в незыблемость и вечность нравственных норм повлекла за собой разрушение всех этических принципов. Религия до сих пор была важнейшим сдерживающим фактором и теперь освобождение от нее открыло двери для всяческих преступлений, моральных и правовых. В самом деле, всегда можно найти тысячи способов избежать человеческого наказания за преступления и только божественная кара всегда остается неизбежной. Однако страх перед божественным наказанием основан на религиозной вере, а когда этой веры нет, пропадает и страх и оказывается возможным творить все что угодно. Видимо, эта тема была чрезвычайно актуальной в классических Афинах, коль скоро
438
Рис. 33. Последствия попойки: гетера помогает незадачливому юноше при рвоте. Ок. 490 г. до н. э.
мотив справедливого воздаяния преступникам и нечестивцам стал доминирующей темой в творчестве всех трех великих афинских драматургов. Основные категории гомеровской этики — страх перед богами и стыд перед соплеменниками — утратили свое прежнее значение и влияние на общественное сознание. Это породило серьезные этические и нравственные проблемы в афинском обществе.
Переломным моментом в этом отношении стала все та же Пелопоннесская война. Яркое описание разложения нравов во время войны оставил Фукидид. Из его слов следует, что жестокость, коварство, клятвопреступления, нечестие и насилие были уже характерными приметами времени. Историк пишет, что благочестие и страх перед богами стали пустым звуком, пороки считались достоинствами, а добродетели подвергались осмеянию (Thuc., III, 82—84). Фукидиду вторит и Софокл: уже в самой ранней своей трагедии — в «Аяксе» — он предупреждает афинян, чтобы они не утратили основные качества, необходимые каждому человеку: страх и стыд. Без них любая община погубит себя своеволием (1079—1086). Софокл знает, что вокруг царит зло и несправедливость и устами одного своего благородного героя заявляет свой протест:
Где гибнет правда и злодей ликует,
Где трус в чести, а добрый в униженье,
Там нет предмета для любви моей.
(Filoct., 456-458 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)
439
Причину морального упадка Софокл видит в деньгах — он традиционно объясняет все грехи жаждой наживы:
Да, деньги, деньги! Хуже нет соблазна
Для смертного. Они устои точат
Стен крепкозданных и из гнезд родных
Мужей уводят; их отрава в душу
Сочится добрых, страсть к дурным деяньям
Внушая ей; они уловкам учат,
Как благочестья грань переступать.
(Antig., 296-302 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)
Софокл в своем творчестве старается не концентрироваться на негативных явлениях и главной своей целью ставит дать достойные образцы для подражания. Тем не менее, время от времени у него попадаются эпизоды, указывающие на упадок нравов среди современников. В «Антигоне» он выводит на сцену стража, который озабочен только собственным благополучием и поэтому с легкостью забывает о данных им клятвах (395). В последней трагедии Софокла старый Эдип делает уже совсем печальный вывод: «хиреет верность и коварство крепнет» (Oed. Col., 611). Даже Еврипид отдает должное этой теме в своей «Медее»:
Священна клятва в пыли,
Коварству нет больше предела,
Стыдливость и та улетела
На небо из славной земли.
(437-440 / Пер. И. Анненского)
Моральное разложение и отказ от традиционных ценностей сказались и на семье. Прежде всего это проявилось в ослаблении семейных связей и в разрушении традиционных отношений в семье. Патриархальные порядки все более отступали под натиском новой эпохи, женщина становилась свободнее, начала заявлять о своих правах и даже протестовать. Ярким историческим примером этой тенденции является жена Перикла милетянка Аспазия. До знакомства с Периклом она была гетерой, вела свободный образ жизни, содержала гетер, а позднее, как были убеждены многие афиняне, оказывала огромное влияние на политику мужа (Plut. Per., 24). Аспазия занимала выдающееся место в обществе и вокруг нее собирался кружок вольнодумных женщин. Современников шокировал тот факт, что такого положения в государстве добилась жен-
440
щина, к тому же иностранка, и к тому же еще и гетера. Все это было явным нарушением вековых традиций и свидетельствовало об их упадке.
Не исключено, что именно под впечатлением от Аспазии Софокл создал свой образ Антигоны, открыто восставшей против власти царя. Это было чем-то неслыханным — Софокл предложил дерзкое и новаторское истолкование древнего мифа. Более того, в одном фрагменте из недошедшей до нас трагедии «Терей» драматург вкладывает в уста своей героини пространное рассуждение о тяжести и несправедливости женской доли (fr. 129/583). Не отставал от Софокла и Еврипид: его Медея открыто заявила, что на свете нет существ несчастней женщин (230 sqq.). В этой же трагедии Еврипид высказывался в пользу женской эмансипации и заявил, что наука вполне доступна женскому уму (1081—1088). Видимо, и здесь не обошлось без влияния Аспазии, славившейся своей ученостью. Примерно тогда же появились и феминистские идеи о равноправии женщин и возможности их участия в политической жизни. Отголоском этих идей стали некоторые комедии Аристофана (особенно «Женщины в народном собрании» и «Лисистрата»), в которых высмеивалось стремление женщин вмешаться в политику и взять управление государством в свои руки. Можно предполагать, что подобные умонастроения были не редкостью, раз уже Платон совершенно серьезно предлагал уравнять женщин в правах с мужчинами и даже хотел заставить их сражаться (Leg., 781 b; 805 d sqq.; 814 а-b).
Вместе с тем размывание традиционных устоев семейной жизни способствовало ослаблению брачных уз. Супружеские измены стали самым обычным делом и даже получили софистическое оправдание. Образец такой логики приводит Аристофан в «Облаках»: там Кривда так поучает юношу:
...играй, целуй, блуди, природе следуй!
Спокоен будь! Найдут тебя в постели, ты ответишь —
Что и ничуть не согрешил. Сошлешься ты на Зевса,
И тот ведь уступал любви и обаянью женщин.
Несчастный, неужели ты сильнее будешь бога?
(1078-1082 / Пер. А. Пиотровского)
Похоже, что Аристофан здесь намекает на Еврипида, который приводил аналогичное оправдание супружеской измены, да и сам, возможно, не отличался нравственной чистотой в отношениях с женщинами. То, что на эту тему заговорили с театральных
441
подмостков, свидетельствует о типичности супружеской измены. К тому же здесь представлен и обычный способ ее оправдания, придуманный софистами: это их излюбленными аргументами были следование природе и ссылки на аморальность гомеровских богов. Вот где дали себя знать моральные погрешности олимпийской религии!
В семье наметилась еще одна общественная проблема — конфликт поколений. Но это уже был не обычный конфликт «отцов и детей», а столкновение двух мировоззрений. Старшее поколение в большинстве своем сохраняло верность традиционным ценностям, а в глазах молодежи эти ценности потеряли всякий смысл и превратились в смешные пережитки. Все началось с того, что среди молодежи стал пропадать авторитет старших. Если раньше, еще со времен Гомера, мудрость старшего поколения и его моральное превосходство признавались безусловно, то теперь их стали подвергать сомнению и оспаривать. Молодежь на первый план выдвигала себя, а старики перестали цениться как мудрые отцы и отодвигались на задний план. Это сразу отразилось в искусстве: все реже художники изображали старцев и все чаще юношей и мужчин в расцвете лет. Поэтому не только упомянутый Триптолем, но также Тесей, Геракл и другие герои стали изображаться в виде молодых людей (см. рис. 26, прил. 31). Такая переориентация возрастных ценностей сделала возможным и нападение на Ареопаг. Теперь молодое поколение принялось отстаивать свои равные права с поколением отцов. Образцом такого рода выступления может служить приведенная у Фукидида речь Алкивиада перед собранием афинян, в которой тот доказывал равноценность для политики своего молодого возраста с возрастом пожилых мужей (Thuc., VI, 17, 1-2; 18, 6). Такая же дискуссия присутствует и в «Антигоне» Софокла: там сын открыто вступил в спор с отцом и не пожелал признать правоту по старшинству (725—729). В конце концов, молодому поколению удалось отвоевать ведущие позиции и это отразилось даже на процедуре проведения народного собрания. Еще современники Демосфена в IV в. до н. э. помнили, что раньше право выступать в собрании предоставлялось по очереди и в порядке возраста, т. е. сперва давалось слово старшим и только затем молодым. Оратор Эсхин утверждал, что в те времена старейшие граждане давали афинянам лучшие советы из-за своей опытности и сетовал, что теперь этот обычай утрачен и «перевелось все, что прежде признавалось лучшим» (III, 2 sq.). Так конфликт «отцов и детей» завершился победой нового поколения, т. е. победой новой идео-
442
логии и поражением старой. В результате в литературе все чаще стали появляться указания на потерю уважения к родителям со стороны детей. Даже Софокл, который в споре отца и сына занимал сторону сына, был возмущен новым положением вещей и взялся поучать афинян:
Где над отцами торжествуют дети,
Нет благомыслья в городе таком.
(fr. 558/935 / Пер. Φ. Ф. -Зелинского)
Аристофан представляет ругань отца с сыном как уже вполне типичную ситуацию в своем городе (Nubes., 998 sq.). Платон утверждает, что в его время обычным делом стало жестокое обращение детей с родителями, побои и даже убийства родителей (Leg., 881 а—d). Исократ говорит о дурном обращении детей с родителями как о чем-то вполне привычном (Areop., 49). Вообще, по данным литературных источников, молодое поколение, появившееся в годы Пелопоннесской войны и после нее, отличалось цинизмом, беспринципностью и презрением к моральным ценностям старших поколений. Именно против этой молодежи чаще всего выдвигалось обвинение в безбожии и религиозном нечестии. Самый громкий скандал произошел в связи с осквернением герм во время войны. Тогда обвинение пало на Алкивиада и группу молодых людей вместе с ним — они якобы не только изувечили гермы, но и пародировали священные мистерии (Thuc., VI, 28, 1). Истинные виновники так и не были найдены, но афиняне имели основания подозревать молодежь в нечестии и атеизме (Plat. Leg., 888 а). Вместе с тем ей ставилась в вину и безнравственность. В результате, литературное противопоставление старшего и младшего поколений превратилось в противопоставление морали и аморальности. Поколение отцов, которое отразило от Греции персидские полчища, стало олицетворять добродетель и высокую нравственность былых времен, а молодежь стала воплощением современной развращенности и изнеженности. Это противопоставление хорошо отразилось в комедиях Аристофана, особенно в «Осах» (1060—1100). Ярким примером аморальности молодежи служил прославившийся цепью измен Алкивиад, который без малейшего смущения, вполне следуя идеям своего учителя-софиста Протагора, воевал то за свой родной город, то против него. Кажется, в его время молодежь не стеснялась уже открыто издеваться над старыми обычаями и моральными ценностями. Видимо, не случайно у Аристофана один герой произносит следующие слова:
443
За успех новизны ты не бойся! У нас величайшей считается честью
За новинкою гнаться, старье презирать, над минувшим отважно смеяться.
(Eccl., 586—587 / Пер. А. Пиотровского)
Похоже, что здесь лежит ключ к объяснению знаменитого новаторства афинян: новое поколение в демократических Афинах отказалось от прежних ценностей и моделей, оно переориентировалось с традиции на новацию и начало охоту за новизной. В этом и состояла суть тогдашнего конфликта поколений.
Все эти новые явления не могли не сказаться на политическом сознании афинян. Гражданский идеал Перикловой демократии быстро изжил себя и был списан на свалку истории. Этот идеал высшей ценностью ставил общественное благо и воспитывал политически активных граждан, ставящих своей целью служение родному полису. Теперь на смену этому идеалу пришли безразличие к общественным делам, аполитичность и личные интересы как высшая ценность. Сейчас уже мало кого интересовало общее благо и все были поглощены заботами о собственной выгоде и наживе. Типичными стали жалобы на коррупцию и на то, что в политику стремятся нечистые на руку люди, которые действуют не ради пользы государства, а ради личного обогащения (примеры см.: Aristoph. Plutus, 566—570; Isoer. Areop., 25). Эсхин замечает, что эти люди считают государство не общим, а своим достоянием (III, 3). Аристофан же по этому поводу восклицает:
Кошель народный отдали чиновникам,
И каждый о своей лишь помнит прибыли,
А город ковыляет, как Эсим-хромец.
(Eccl., 206-208 / Пер. А. Пиотровского)
Взяточничество и коррупция стали уже нормой политической жизни и принесли Афинам печальную славу самого коррумпированного государства. У Ксенофонта в «Анабасисе» спартанец Хирисоф характеризует афинян как больших мастеров воровать казенные деньги (VI, 6, 16). В результате в IV в. до н. э. аполитичность граждан стала уже массовым явлением в Афинах. Богатство заняло первое место в системе ценностей, а стремление к личной выгоде и удовольствиям заслонило все остальное. В аристофановских «Облаках» Кривда восклицает, что без чувственных удовольствий не стоит и жить на свете (1074). Такой образ мыслей наглядно представил и Еврипид в сатировой драме «Циклоп». Он изобразил этого циклопа жадным и прожорливым обывателем, которо-
444
му наплевать на богов и на все остальное, кроме своего желудка и материального достатка. Драматург вложил в его уста следующие слова:
Для мудрого, мой мальчик, бог один —
Богатство, да! А прочее — прикрасы
Словесные, шумиха...
...Утроба — вот наш бог,
И главный бог при этом. Пища есть,
И чем запить найдется на сегодня,
Ничто не беспокоит — вот и Зевс
Тебе, коль ты разумен.
(316-318; 335-339 / Пер. И Анненского)
О политических последствиях такого отношения к жизни красноречиво говорит оратор Лисий в одной из своих речей: «А кто хоть и родился гражданином, но держится убеждения, что всякая страна ему отечество, где он имеет средства к жизни, тот, несомненно, с легким сердцем пожертвует благом отечества и будет преследовать свою личную выгоду, потому что считает своим отечеством не государство, а богатство» (XXXI, 6). Этот принцип, столь популярный среди афинян, Аристофан блестяще выразил в знаменитой фразе: «Где хорошо, там и родина!»102
Как мы помним, гражданский идеал имел еще и военный аспект: он создавал образ гражданина-гоплита, сражавшегося в общем строю тяжелым оружием ближнего боя. Теперь пришло время для развенчания и этого идеала. Уже Еврипид в своем «Геракле» подвергает его острой критике. Там он представляет дискуссию между жестоким тираном Ликом и Амфитрионом. Лик отстаивает старинные представления о воинской доблести, которую, по его мнению, можно проявить только в ближнем бою. Он утверждает, что стрелок из лука не бывает храбрым, а только трусом и его воинское искусство — «в быстрых пятках» (157—168). В ответ Амфитрион как бы со знанием дела поучает Лика, что положение гоплита в строю незавидно и что настоящим искусством на войне является стрельба из лука, которая позволяет вредить врагу, самому оставаясь недоступным для него (188—202). Здесь Еврипид в очередной раз отвергает традиционные ценности — его симпатии
102 В оригинале это выглядит так: πατρίς γάρ έστί πασ' 'ίν αν πράττη τις ευ — т. е. буквально: «где хорошо идут дела, там и родина» (Plut., 1151).
445
были явно на стороне Амфитриона. В данном случае, однако, он не был оригинален — подобным образом мыслили уже многие афиняне. В ходе Пелопоннесской войны они все чаще отказывались от героических идеалов ради практической выгоды. Поэтому не случайно, что именно во время этой войны стала возрастать роль легковооруженных воинов и особенно стрелков из лука. Пробным камнем для афинян была пилосская операция: там прагматизм окончательно взял верх над рыцарской идеологией. Афиняне тогда так и не отважились сразиться со спартанцами по-рыцарски, в ближнем бою, но, окружив их со всех сторон и находясь в безопасности на возвышенностях, сверху забрасывали спартанцев стрелами и дротиками до тех пор, пока не вынудили их сдаться. Пелопоннесская война стала переломным пунктом и в отношении правил ведения войны: рыцарские правила времен Лелантской кампании были отброшены как ненужные «аристократические замашки» — теперь целью воюющих сторон было победить любой ценой и нанести максимальный урон противнику, не считаясь ни с чем. Религиозные и морально-этические нормы были выброшены из военного дела так же, как раньше из политики. Теперь было все позволено и если раньше считалось невозможным продавать в рабство жителей завоеванного греческого города, то сейчас греки без смущения продавали греков и ни перед чем не останавливались. Наступили новые времена и героическую идеологию аристократии сменил мещанский прагматизм. При этом афиняне были настолько увлечены жаждой наживы, что даже потеряли желание сражаться за свою родину. Аристофан говорил, что стратеги больше не желают сражаться без награды (Equit., 590), а Исократ возмущался тем, что афиняне, даже оказавшись в нужде не хотят воевать за свои интересы, но снаряжают армии наемников (De расе, 46 sq.). Однако никакие речи ораторов и поэтов не могли повлиять на ситуацию: вытеснение гражданского ополчения наемными войсками было естественным следствием кризиса полиса и падения полисных идеалов.
Крушению этих идеалов и росту аполитичности граждан в значительной степени способствовали релятивистские теории софистов и разочарование в политической практике полиса. Государством правили не законы, а решения народного собрания и поэтому Исократ сокрушался, что афиняне установили много законов, но мало считаются с ними (De расе, 50). Народное собрание, в свою очередь, было подвержено метаниями и под воздействием различных ораторов часто меняло свои решения на противоположные. Все это вызывало растущую неудовлетворенность, которая, с одной сторо-
446
ны, порождала призывы вернуться к «умеренной демократии» времен Солона и Клисфена, а с другой стороны, активизировала творческую мысль философов, создававших проекты идеального государства. Воскресли мечтания о золотом веке Кроноса, когда все было общим и все были равны. Подобные утопические проекты остроумно высмеял Аристофан в своей знаменитой комедии «Женщины в народном собрании». Там он от души посмеялся как над идеями всеобщего уравнения «по количеству», так и над феминистскими амбициями и теориями. Фабула этой комедии проста и остроумна: однажды женщины вдруг решили, что они смогут управлять государством лучше мужчин, — они взяли власть в свои руки и попытались построить «царство Кроноса» на земле, в отдельно взятой стране, по хорошо знакомой нам схеме:
Мы общественной сделаем землю,
Всю для всех, все плоды, что растут на земле, все,
чем собственник каждый владеет.
От имущества общего будем кормить вас, мужчин,
мы, разумные жены.
(597-599 / Пер. А. Пиотровского)
После забавных перепетий все эти планы потерпели полное фиаско и стала очевидна их абсурдность. Однако в то время как Аристофан смеялся, Платон и Аристотель усердно работали над проектами идеального государственного устройства. Также как и тысячи их современников, они были недовольны существующим положением вещей и думали об альтернативных вариантах. Таких недовольных было много и все они находили свои причины для недовольства: одни критиковали демократию за моральное разложение, другие за несправедливость, а третьи за плохую организацию. Впрочем, это уже отдельная тема, о которой пойдет речь на следующих страницах.
в) Современники о демократии
Для полноты картины осталось еще прислушаться к голосам самих афинян и услышать, что их лучшие представители говорили и думали о современном им демократическом обществе. Конечно, в рамках данной работы невозможно дать исчерпывающее представление о мнениях всех античных писателей по данному вопросу, и поэтому мы рассмотрим лишь показания непосредственных свидетелей, живших в V в. до н. э. в Афинах и так или иначе отразивших свою точку зрения. Самым первым автором, писавшим о
447
демократии, был Геродот: он был певцом нового строя и отражал официальную позицию — его мнение уже было рассмотрено выше. Поэтому начнем наш обзор с афинских трагиков и посмотрим, как реагировали на общественные изменения деятели искусства и как они воспринимали политические реалии своего города.
Афинские трагики
Первым по времени в ряду великих афинских драматургов стоит Эсхил. Его позиции мы уже частично касались, когда говорили о реформе Эфиальта, сейчас же рассмотрим ее несколько поближе. Как уже сказано, он придерживался консервативных взглядов и реформу Ареопага воспринял как святотатство и разрушение вековых устоев порядка. Он предчувствовал беду еще до реформы, когда над Ареопагом начали сгущаться тучи эфиальтовских преследований. За год до реформы он поставил трагедию «Просительницы», в которой пытался поднять авторитет Ареопага: там есть похвальные слова о членах этого совета, которые седы, но сердцем юны, и которые разумно и безупречно пасут свой город (67 sqq.). Конечно, никакого эффекта это не имело и на следующий год Эфиальт осуществил свою реформу. Спустя три года Эсхил поставил свою трагедию «Эвмениды», в которой уже ясно звучал протест против реформы: он вложил в уста Афины вдохновенный монолог о святости и неприкосновенности учреждаемого ею Ареопага (см. выше, 1 в). Возможно, Эсхил надеялся, что афиняне одумаются и восстановят права Ареопага, но он ошибся. Не зря его Эвмениды восклицают:
Творят самоуправство боги новые.
Правды сильней их власть.
(Eum., 163-164 / Пер. В. Иванова)
Со временем поэт окончательно утвердился в своем неприятии новых порядков и это привело его к разрыву с афинской демократией. О том, что произошло между ним и его городом, ничего достоверного не известно. Мы знаем только, что в конце жизни Эсхил покинул Афины и поселился в Сиракузах. Есть все основания полагать, что это была политическая ссылка. Аристофан в «Лягушках» намекает на какой-то конфликт между Эсхилом и Афинами:
Найти людей достойных очень трудно,
Не ладил ведь с Афинами Эсхил.
(806-807 / Пер. А. Пиотровского)
448
Сборник античных свидетельств о жизни и творчестве Софокла утверждает, что Эсхил удалился на Сицилию из-за поражения в состязаниях с Софоклом и из-за притеснений со стороны афинян (36/37). Причина для притеснений могла быть только одна: нелояльность Эсхила к афинской демократии. Кажется, здесь можно говорить о политическом преследовании инакомыслящего драматурга со стороны новой власти.
Учитывая эти обстоятельства, мы можем понять наконец и смысл последней трагедии Эсхила — «Прометей прикованный», которая была написана, скорее всего, уже на Сицилии103. Ее особенностью является необычный образ Зевса: если в других трагедиях Эсхил обращался к Зевсу с огромным почтением и славил его как всемогущего и всеобъемлющего владыку мира, то здесь он вдруг представил Зевса как жестокого тирана-самодура, поставившего свой произвол выше всего на свете. Столь резкий контраст вызывает большое недоумение исследователей104. Иногда «Прометей прикованный» называется даже первым памятником религиозного критицизма, открывающим список произведений мирового атеизма103. Однако, читая трагедии Эсхила и зная его набожность, с этим невозможно согласиться. Неубедительно выглядит и попытка объяснить данный факт тем, что Эсхил, воспринимая Зевса как пантеистического бога, хотел подвергнуть критике старые антропоморфные представления о богах106. Во-первых, Эсхил никогда не посягал на традиционные формы благочестия, а только обогащал их мистическим опытом своего богоискания. Во-вторых, Зевс в «Прометее» критикуется как тиран-самодур, а не как человекоподобный бог. Значит, разгадку следует искать только в политической подоплеке трагедии. Здесь же ответ лежит прямо на поверхности: основную фабулу пьесы составляет конфликт старых и новых богов, т. е. развивается та же тема, что и в «Эвменидах». Новых богов представляет дорвавшийся до власти Зевс, который сверг старых богов-титанов и теперь беззаконно правит миром по своему произволу. Ему противостоит лидер поверженных титанов Прометей — он побежден, но не смирился даже тогда, когда Зевс приковал его к скале и обрек на вечные мучения.
103 Вопрос датировки см.: Ярхо В. И. Комментарии // Эсхил. Трагедии. М., 1989. С. 486; Podlecki А. 1966. Р. 177; Meier Ch. 1988. S. 157.
104 Meier Ch. 1988. S. 174.
105 Ярхо В. И. На рубеже двух эпох // Эсхил. Трагедии. Μ., 1989. С. 471.
106 Там же. С. 481 сл.
449
Симпатии Эсхила были явно на стороне Прометея, а Зевс у него выведен в самом неприглядном свете. Этот новый Зевс свой произвол почитает законом (186), истребляет старое «племя Урана» (164), от его правления «что было великим, в ничто истлело» (151). Если учесть, что старые боги у Эсхила символизируют аристократию, а новые — демократию (см. выше, 1 в), то становится очевидным, что за образом Зевса-самодура скрывается образ демоса-народа, обладающего теперь неограниченной властью и правящего по своему произволу107. При этой новой власти «в ничто истлели» старые аристократические доблести и оказалось обречено на гибель «старое племя Урана», т. е. аристократия. Следовательно, в этой трагедии Эсхил выступил с резкой критикой афинской демократии.
В пользу такой интерпретации говорит еще целый ряд обстоятельств. Как мы уже видели, не один Эсхил сравнивал афинскую демократию с тиранией. После него это стало уже обычным делом и такая аналогия никого не удивляла. Изображение народовластия как самодурного произвола находится в русле античной критики демократии, которую часто обвиняли в том, что она ставит волю народного собрания выше закона (Arist. Pol., 1292 а 6 sq., 16 sq.). Наконец, были основания говорить и о гибели древнего племени титанов: это преследования и изгнания выдающихся знатных людей, например Кимона.
В Эсхиловском «Прометее» отчетливо отразилась и смена моральных ценностей, произошедшая с наступлением новой эпохи. Свергнутые титаны олицетворяли старую аристократическую этику — они сражались за власть с новыми богами по всем правилам кодекса чести. Этот кодекс предусматривал поединок, ближний бой, где все решала сила и ловкость. Метательное оружие, тактические хитрости и обман исключались, как средства борьбы не благородных людей, а «дурных» простолюдинов, которые заботятся только о достижении цели и не разбираются в средствах108. Поэтому эс-
107 Эту догадку очень осторожно высказывает и X. Майер, но опять-таки, из-за идеологических шаблонов он боится признать ее очевидной — см.: Meier Ch. 1988. S. 17 ff.
108 Достаточно вспомнить поединки гомеровских героев или Лелантскую войну. В архаическую эпоху фаланга унаследовала эту рыцарскую модель боя, с той разницей, что сражаться должны были не отдельные герои, а вся община в целом, все сразу. При этом тактика фаланги тоже исключала всякие маневры и тактические хитрости: это был бой «стенка на стенку». Только начиная с Пелопоннесской войны, в этой тактике начали происходить изменения и постепенно все большая роль стала отводиться кавалерии и легкой пехоте.
450
хиловские титаны, восстав против новых богов, презрели лесть и хитрость и хотели прямой силой добиться власти (206—208). Они проиграли, как проиграла вообще аристократия, и должны были признать, что теперь в мире новый порядок:
...не крутая сила и не мужество,
А хитрость власть созиждет в мире новую.
(212-213 / Пер. В. Иванова)
В мире правят теперь новые силы, аристократия должна смириться и подчиниться им. К этому призывает послушный Океан непокорного Прометея:
Пойми границы сил своих, смири свой нрав.
Стань новым. Новый нынче у богов вожак.
(309-310 / Пер. В. Иванова)
Но, как известно, Прометей не может смириться и «стать новым» и поэтому выход из положения Эсхил видит не в раскаянии Прометея, а в изменении позиции Зевса. В этом и заключался трагизм положения: традиционная аристократия не могла смириться с новым порядком, а демос не мог отказаться от своих завоеваний.
Итак, можно считать, что Эсхил был первым критиком афинской демократии. Эта иносказательная критика была его реакцией на свершившиеся на его глазах революционные перемены в обществе. Его муза отреагировала на них отрицательно. Эсхил воспринял победу демократии как крушение всех традиционных ценностей, как крах старого порядка и всего старого мира. Поэтому неудивительно, что Афины стали враждебны ему и он был вынужден их покинуть. Можно предположить, что он поставил своего «Прометея» еще в Афинах и что именно эта постановка стала причиной его разрыва с родным городом, но это уже не так важно. Суть ясна: отныне общественное сознание оказалось расколотым — одна часть общества приняла новые ценности и приняла участие в строительстве нового мира, а другая часть отвергла новый мир и осталась в оппозиции. Это разделение прошло сквозь все общество и отразилось в искусстве: сравнение Эсхила и Софокла дает тому наглядный пример.
Софокла можно назвать баловнем судьбы: он был самым удачливым драматургом в Афинах и в противоположность Эсхилу до конца дней своих пользовался любовью и славой среди сограждан. Вероятно, это объясняется его способностью приспосабливаться к условиям и идти в ногу со временем, что и сделало его «непотопляемым». Мы уже видели, что его убеждения не были
451
прочными — он их менял, подвергал сомнению и легко поддавался общему увлечению. Он чутко улавливал настроение толпы и сразу же угождал ему. Поэтому в его произведениях находится место как традиционному благочестию, так и религиозному скепсису и даже критике богов (см. выше 2 б). Естественно, что и его отношение к афинской демократии было неоднозначным. Конечно же, он был по отношению к ней полностью лоялен, — иначе его постигла бы судьба Эсхила. Он входил в кружок Перикла и был в восторге от достижений афинского государства. Этим все сказано. Тем не менее все не так просто, как кажется. Ранний Софокл явно заигрывал с аристократией, с консервативными кругами общества и в «Аяксе»109 позволил себе некоторые проаристократические высказывания. Например, такое:
А имущего Зависть следит по пятам,
Между тем, как толпа без великих мужей
Ненадежный оплот воздвигает в бою.
(157-159 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)
В другом месте он даже доходит до критических интонаций и осуждает своеволие толпы:
А где преграды нет бесчинству граждан
И своеволию — община такая,
Хотя б счастливые ей ветры дули,
Пучины не избегнет роковой.
(1081-1984 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)
Однако, прошло некоторое время, «век Перикла» достиг апогея, Софокл сменил ориентацию и в «Антигоне»110 перешел к пропаганде идей официальной идеологии. В этой трагедии он столкнул два поколения: царя Креонта и его сына Гемона. Одновременно это было столкновением двух идеологий. Креонт олицетворял старшее поколение со старой идеологией и был показан как тиран-самодур, готовый погубить не только Антигону, но и собственного сына. Гемон же олицетворял новую демократическую молодежь. Они схлестнулись в напряженном споре и Гемон заявил, что он имеет право поучать своего отца: «смотреть на дело должно, не на возраст» (729). Затем их спор коснулся и форм власти:
109 «Аякс» был поставлен во второй половине 50-х или в начале 40-х гг. V в. до н. э.
110 «Антигона» была поставлена в 442 г. до н. э.
452
Креонт
Своей мне волей править иль чужою?
Гемон
Единый муж — не собственник народа.
Креонт
Как? «Мой народ» — так говорят цари!
Гемон
Попробуй самодержцем быть в пустыне!
(737-739 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)
Здесь Софокл славит демократию по традиционному идеологическому шаблону — противопоставляя ее единоличной власти. Афинянам так понравилась эта пьеса, что на следующий год они выбрали Софокла стратегом, не считаясь с тем, способен он быть военным командиром или нет.
Прошли годы, Афины вошли в полосу неудач, военных поражений и внутренних неурядиц. В обществе росло недовольство, аристократические силы консолидировались, составлялись заговоры, зрели перевороты. В это время Софокл опять стал позволять себе критику. В «Филоктете»111 он заявил, что ему не по душе, когда поругана правда, и когда «трус в чести, а добрый в униженье» (457). В одном фрагменте из несохранившейся трагедии «Федра» Софокл развивает эту мысль в политическом контексте:
В том государстве прочных нет устоев,
Где топчут в грязь и правду и разумность,
Где взял бразды преступною рукою
Болтливый муж и градом управляет.
(fr. 168/683 / Пер. Φ. Ф. Зелинского)
В литературе того времени под такими «болтливыми мужами» понимались именно демагоги — народные вожди, которым удавалось искусными речами морочить голову толпе и втихаря наживаться при этом. Властью таких вождей оппозиция часто попрекала демократию (см. ниже). Значит, можно полагать, что Софокл опять заигрывал с аристократией. Это подтверждает и еще один фрагмент, авторство которого точно не установлено, но часто приписывается Софоклу:
111 «Филоктет» был поставлен в 409 г. до н. э.
453
Когда добрые никнут и терпят урон
От безродных мужей —
Нет от этого городу пользы.
(Alead., fr. 388/84 / Пер. Φ. Φ. Зелинского)
Здесь уже явно звучит аристократическая критика существующих порядков. Впрочем, даже если этот фрагмент и не принадлежит Софоклу, материала для выводов уже достаточно. Одним словом, Софокл может служить хорошим барометром общественных настроений: когда демократия в расцвете, он славит ее по общепринятой схеме, а когда усиливается оппозиция, он выступает с позиций аристократической критики и эта критика сводится к тому, что плохо, когда «дурные» процветают, а «добрые» прозябают не у дел.
Еврипид, как сказано, отличался поистине революционным новаторством в области драматического искусства и шокирующим отношением к олимпийским богам. В этом он явно опережал свое время: основная масса афинян была еще неспособна воспринять его необычное творчество и его скандальные идеи. Поэтому в театральных агонах ему не очень везло и настоящий успех пришел к нему только после смерти, когда его стали считать самым выдающимся греческим драматургом. При жизни же у него было больше критиков, чем поклонников. Особенно ему досталось от Аристофана: тот чуть ли не в каждой комедии стремился «проехаться» по Еврипиду, а две комедии посвятил специально ему. Аристофан нападал на Еврипида за то, что его герои показывали на сцене образцы религиозного нечестия и безнравственности. Комедиограф не без основания полагал, что тем самым Еврипид учит афинян дурному и способствует развращению нравов. В своей комедии «Лягушки» Аристофан свел в споре Эсхила и Еврипида — он их противопоставил как два моральных полюса: один учил афинян добродетели, а другой пороку. Понятно, что среди афинян были свои поклонники как у Эсхила, так и у Еврипида. В аристофановских «Облаках» показано, как распределялись вкусы по возрастным категориям: старик Стрепсиад почитает Эсхила, а его сын восторгается Еврипидом. Это значит, что консервативное старшее поколение было на стороне Эсхила и Аристофана, а новое поколение отдавало предпочтение Еврипиду. В этой атмосфере Еврипид чувствовал себя неуютно и ему приходилось считаться с консервативными настроениями сограждан. Поэтому, чтобы не навлечь на себя гнев толпы, он в своих трагедиях пытался доказать свою политическую лояльность, признавался в любви к Афинам («люблю Афины я, люблю
454
бесспорно» — Heraclid., 975) и хвалил демократию. В годы войны он не упускал случая унизить Спарту и один раз даже обозвал ее последней страной на свете (Androm., 725 sq.). Соответственно, он использовал любую возможность, чтобы восславить Афины или показать превосходство афинского государственного строя. В «Гераклидах» Иолай, обращаясь к афинскому царю Тесею, заявляет:
Царь, в этом ведь страны твоей краса:
На слово словом здесь ответить равным
Позволят мне...
(182-184 / Пер. И. Анненского)
В этом месте Еврипид славит родной город за демократическую свободу слова, а в другом месте он даже отвечает на критику демократии. Как известно, аристократия обвиняла демократию в том, что при ней «лучшие» люди отстранены от дел и не получают должного им почета и власти. На это Еврипид в «Гекубе» отвечает, что этим болеют многие города Эллады (305 sqq.), а следовательно, нет нужды упрекать в этом именно Афины.
Но наиболее полную апологию демократии Еврипид представил в «Просительницах». Там он развернул целую дискуссию о формах государственной власти:
Тесей
С ошибки речь ты начал, гость. Напрасно
Ты ищешь самодержца, — не один
Здесь правит человек, — свободен город!
Народ у власти; выборных сменяет
Он каждый год; богатству преимущества
Здесь не дают, права у бедных те же.
Вестник
Играй мы в кости, я сказал бы: ты
Нам дал очко вперед! Нет, у фиванцев
Один стоит у власти, не толпа.
Никто речами дутыми не кружит
Голов себе на пользу и не вертит
Народом; знавший почести и ласку
Там не вредит потом и, клеветой
Скрыв прошлое, суда не избегает.
И может ли народ, не разбираясь
В делах и нуждах, государством править?
Надежней опыт — быстрого решенья.
455
Бедняк из сельских, даже если он
Не грубый неуч, целый день в трудах, —
Когда ему об общем благе думать?
Весьма предосудительно для знатных,
Коль негодяй, который был ничем,
Достигнет положенья и народом
Его ничтожный властвует язык.
Тесей
Остер, однако, вестник, красноречьем
Не обделен! Коль сам ты выбрал путь, —
Затеял словопрение, — так слушай:
Нет ничего для государства хуже
Единовластия. Во-первых, нет
При нем законов общих — правит царь.
Нет равенства. Он сам себе закон.
А при законах писаных — одно
Для неимущих и богатых право.
И может смело бедный обвинять
Богатого в его дурном поступке, —
И победит слабейший, если прав.
Свобода в том, что на вопрос: «Кто хочет
Подать совет полезный государству?» —
Кто хочет — выступает, кто не хочет —
Молчит. Где равенство найти полнее?
Там, где народ у власти, выдвиженью
Он рад бывает новых сильных граждан, —
А самодержец в этом видит зло
И наилучших, в ком приметил разум,
Уничтожает, трепеща за власть.
Иной, как ниву о поре весенней,
Жнет храбрецов и косит молодых.
Копить ли для детей добро и деньги,
Коль все труды идут в мошну царя?
Ужель блюсти невинность дочерей
Для сладострастных прихотей тирана,
Семью ввергая в плач? Да лучше смерть,
Чем вытерпеть над дочерьми насилье...
Итак, я отразил твой каждый довод.
Чего ж от нашей хочешь ты страны?
(403-457 / Пер. С. Шервинского)
Легко заметить, что представленная здесь апология демократии строится по привычному идеологическому стандарту, т. е. пу-
456
тем противопоставления ее тирании. Главные аргументы в пользу демократии — это свобода слова и равенство всех перед законом. Порочность же тирании усматривается в том, что при ней правит монарх, а не закон. Как видим, это стандартный набор официальной пропаганды, плюс еще немного эмоций по поводу алчности тирана и его насилия над дочерями граждан. Не обошлось и без преувеличений: довольно странно звучат слова о том, что народ радуется выдвижению сильных граждан, на фоне остракизмов и постоянных жалоб аристократов и просто богатых людей на притеснения со стороны демократии. Как бы то ни было, моральную победу в этом споре Еврипид предоставил Тесею, которому как будто удалось доказать преимущество афинской демократии. Но остается все же некоторое сомнение — Тесей ни словом не ответил на критику фиванца, а ведь тот высказал весьма серьезные обвинения. Он представил уже два аргумента против демократии: то, что грубый народ не способен разумно управлять государством, и то, что вместо «добрых» делами заправляют «дурные». Эти упреки остались без ответа. Возникает вопрос: а действительно ли Еврипид был убежденным демократом? Некоторые его высказывания позволяют в этом усомниться. В «Андромахе» у него вдруг звучит апология единовластия:
Пусть будет много знающих — сильней
Их одного ум самовластный,
Хоть и менее мудр он; в чертогах и градах
В воле единой народу спасенье.
(482-485 / Пер. И. Анненского)
Там же у него проскальзывает похвала благородным аристократам, слава которых «не смолкнет» (774). В «Гекубе» же Еврипид пошел еще дальше и вдруг резко выступил против народных лидеров - демагогов:
Неблагодарно семя ваше — вы,
Народные витии; лучше б вас
И не встречала я... Толпе в утеху
Друзей сгубить готовы вы...
(254-257 / Пер. И Анненского)
Остается только гадать, каковы же были истинные политические взгляды Еврипида — очевидно только то, что он тоже зависел от политической конъюнктуры и приспосабливался. Скорее всего, его демократическая позиция была не искренней, а вынужденной.
457
Его творчество можно рассматривать как еще одно проявление общественного раскола: в нем отразилась ожесточенная полемика между победившей демократией и оппозиционной аристократией.
Теперь от трагиков перейдем к другим афинским писателям и начнем с Фукидида.
Фукидид был очевидцем расцвета афинской демократии при Перикле и свидетелем потрясений, постигших город во время Пелопоннесской войны. Он видел лучшие и худшие годы своей родины и мог оценить положительные и отрицательные стороны афинской демократии. Фукидид высоко ценил Перикла и восхищался его государственным талантом, но это не помешало ему увидеть, что за внешней формой демократии скрывается власть одного человека. Точно так же это не помешало ему в речах недовольных союзников разоблачать агрессивный империалистический характер внешней политики Афин, называя афинскую гегемонию тиранией
(Thuc., I, 124, 3; III, 12 sq.).
Стараясь быть объективным, Фукидид добросовестно излагает речь Перикла, прославляющую демократический строй Афин, и в то же время, в некоторых других речах он помещает и критику существующих порядков. Эта критика в основном сосредоточена в полемике между Клеоном и Диодотом по поводу наказания отложившихся от Афин союзников (Thuc., III, 37—46). Оба политика осуждают сложившиеся отношения между народным собранием и ораторами. Клеон обвиняет афинян в легковерности и готовности следовать за любым оратором, чья речь им покажется убедительной. Он упрекает сограждан в излишней жадности до речей, а ораторов в корыстолюбии и продажности. В результате, по его словам, афинян легко можно обмануть искусно составленной софистической речью. Диодот же, со своей стороны, критикует положение, при котором ораторы, чтобы завоевать симпатии народа, вынуждены любыми способами заискивать перед толпой. Он обвиняет афинян уже не в легковерности, а в излишней недоверчивости, из-за которой они каждого политика подозревают в стремлении к личной выгоде. У них вызывает подозрение даже наилучший совет, если только он высказан прямо и без риторических ухищрений. Поэтому даже честному человеку приходится прибегать ко лжи, чтобы завоевать доверие народа, а всякому, кто делает добро государству, афиняне отплачивают подозрением, что он втайне желает чем-то поживиться. В конце концов Диодот заключает, что в Афинах стало невозможно честно и открыто служить своему государству.
458
В этих дебатах Фукидид показал две стороны одной медали и вскрыл проблему манипуляции общественным мнением в демократических Афинах. Характерно, что в обеих речах акцентируется тема продажности ораторов и коррумпированности политиков. В другом месте Фукидид дает понять, что такое положение опасно для города, особенно в условиях военного времени. Он излагает речь Алквиада, в которой тот отстаивал необходимость нападения на Сицилию. Чтобы убедить афинян в легкости победы, Алкивиад яркими красками расписывал слабость сицилийских городов, будто бы неспособных к серьезному сопротивлению. Центральное место в его аргументации занимает тезис о политической слабости сицилийцев, которую оратор представляет в следующих словах: «Каждый рассчитывает лишь на то, что он как оратор или партийный вожак сможет урвать из государственной казны и готов в случае неудачи переселиться в другую землю» (Thuc., VI, 17, 3). Читатели Фукидида понимали, что эти слова в большей степени относятся к самим афинянам, чем к сицилийцам. Эта проблема была актуальна прежде всего для Афин и стала общим местом в афинской литературе того времени. Тот факт, что Фукидид неоднократно возвращается к ней, говорит о его глубокой неудовлетворенности существующим положением.
Похоже, что Фукидид скептически относился к идеологии и вообще к любой форме политической пропаганды. Говоря о моральном разложении в греческом мире, он приводит в пример борьбу демократической и аристократической партий. Он отмечает, что у лидеров этих партий на устах всегда красивые слова: «равноправие для всех» или «умеренная аристократия». Они утверждают, что борются за благо государства, а в действительности ведут жестокую борьбу за власть между собою, в ходе которой не гнушаются никакими преступлениями. Они достигают власти путем нечестного голосования или насилия (Thuc., III, 82, 8). Следовательно, Фукидид не верил официальной пропаганде и ставил демократических лидеров на одну доску с их политическими противниками. Для него было ясно, что за их демократической фразеологией скрываются заботы не о благе народа, а о собственной выгоде. Причем Фукидид очень точно характеризует и способы захвата власти обеими партиями: демократическая партия приходила к власти «демократическим» путем, т. е. путем нечестного голосования, имитирующего «волю народа», а олигархическая партия захватывала власть силой. Чинимые при этом обеими партиями подлости и насилия Фукидид объясняет неуемной жаждой власти, коренящейся в алчности и в
459
честолюбии (Thuc., III. 82, 8). Следует полагать, что при таком взгляде на вещи историк был невысокого мнения об афинской демократии.
Свои политические симпатии Фукидид открывает только в конце своей книги, когда рассказывает об олигархическом перевороте 411 г. до н. э., который на короткое время ликвидировал демократию в Афинах. Установившееся в результате переворота правление пяти тысяч граждан, в число которых были записаны только те, кто мог на свои средства приобрести тяжелое вооружение, он называет самым лучшим государственным строем, который имели афиняне на его памяти (Thuc., VIII, 97, 2). Для него это было благоразумное смешение олигархии и демократии, благодаря которому государству удалось выйти из тогдашнего тяжелого состояния (Ibid.). Отсюда следует, что Фукидид неодобрительно относился к существовавшей в его время демократии, а его идеалом был так называемый «средний государственный строй», состоявший из смешения демократии и олигархии. Это значит, что реальную демократию он рассматривал как отклонение от своего идеала, если только вообще он признавал демократией власть демагогов.
Еще одно интересное свидетельство об афинской демократии периода Пелопоннесской войны представляет собой трактат неизвестного автора под названием «Афинская полития». Поскольку в древности этот трактат ошибочно приписывали Ксенофонту, его автора обычно называют Псевдоксенофонтом. Почему-то принято считать, что свой трактат он посвятил критике афинской демократии. Очевидно, читателей вводят в заблуждение первые слова автора, где он говорит, что не одобряет афинское государственное устройство за то, что в Афинах простому народу живется лучше, чем благородным (I, 1). Однако при внимательном чтении «Политии» складывается впечатление, что эта фраза — не более чем риторический прием и что автор не только не критикует афинскую демократию, но как раз наоборот, защищает ее от аристократической критики. На самом деле, это апология демократии, написанная от лица простого народа и для простого народа. В ней видно, как и за что критиковали афинский государственный строй аристократы и как отвечали им представители демократической партии.
Итак, первое и главное обвинение против демократии автор называет уже в самом начале своего сочинения: это положение, при котором народу живется лучше, чем благородным. Для аристократии это было неприемлемо, т. к. она признавала только один вид равенства — «по достоинству». Теперь же в Афинах «дурные» взяли
460
верх над «добрыми», или, по терминологии Феогнида, кормилом корабля завладели грузчики, отстранившие от власти опытного кормчего. Уже который раз это ставится в вину афинской демократии. Что же отвечает на это Псевдоксенофонт? Прежде всего, он совершенно игнорирует все старые представления о превосходстве «добрых» над «дурными». Он полностью исключает из политики все моральные категории, т. е. как раз те категории, на которые опиралась аристократия. В своих рассуждениях автор далек от аристократических принципов: он руководствуется только привычными для демократических политиков соображениями выгоды и полезности. Он считает справедливым преимущество народа в государстве на том основании, что народ приводит в движение корабли и тем самым дает силу государству, а кто имеет силу — тот и прав, тот и должен править (I, 2). Автор прямо заявляет, что демократия не нуждается в благородных и не стремится иметь у себя лучшие законы, т. к. для народа главное — быть свободным и управлять, а при лучшем государственном устройстве народ был бы в повиновении у благородных (I, 6—9). Псевдоксенофонт пытается доказать, что необразованность, недисциплинированность и низость простого народа вовсе не являются помехами для демократии, т. к. грубые простолюдины вполне могут постоять за свои интересы в народном собрании и в состоянии удержать свою власть (I, 5—7). В этой аргументации, выдержанной в духе официальной идеологии, на первом месте стоит власть народа — это самодостаточная цель, как бы фетиш, которому все подчинено и ради которого все остальное теряет значение. Не нужны были больше и морально-этические ценности предыдущей эпохи.
После такой общей постановки вопроса Псевдоксенофонт переходит к рассмотрению отдельных сторон жизни афинской демократии и отвечает на критику отдельных положений. Для начала он оправдывает распущенность рабов и метеков в Афинах, доказывая, что их свобода приносит экономическую выгоду для народа (I, 10 sq.). Затем автор рассматривает политику по отношению к союзникам и с гордостью рассказывает о том, как афиняне по своему усмотрению управляют союзниками, поддерживая везде народ, уничтожая его противников и насаждая угодную себе демократию. Без тени смущения оправдываются изгнания и убийства благородных, а также судебный произвол над подвластными, в результате которого, как удовлетворенно отмечает автор, союзники в еще большей степени стали рабами афинского народа (I, 15 — 18). В этих рассуждениях совершенно отсутствует моральная оценка политики, а главным критерием является принцип выгоды.
461
На упрек о том, что в Афинах слабое войско гоплитов, Псевдоксенофонт отвечает пространным восхвалением афинского морского владычества, позволяющего осуществлять контроль над Элладой и без сильной сухопутной армии. Если критики афинской демократии обычно обрушивались прежде всего на морское владычество Афин и видели в нем корень всех зол, то для Псевдоксенофонта это источник всех благ и опора демократии. Он с удовольствием рассказывает о тех выгодах, которые приносит афинянам власть на море: это контроль за торговлей и доставка необходимых товаров; это непрерывный приток богатства и всяческих яств, стекающихся в город со всех концов света (II, 1—13). Автор видит только один недостаток Афин: то, что город расположен не на острове, а на материке, что позволяет врагам, не имеющим морского флота, вторгаться в страну по суше. Впрочем, он тут же с удовлетворением отмечает, что от разорения страны страдают больше крестьяне и аристократы, а демократический элемент, т. е. городской плебс, живущий за счет морского дела, ничего не теряет и спокойно укрывается за городскими стенами (II, 14). Из этих слов следует, что вторжения спартанцев в Аттику были даже на руку демократии, т. к. ослабляли ее политических противников.
Не без цинизма Псевдоксенофонт описывает и моральную безответственность при демократии как очередное преимущество этого государственного строя. Логика при этом такова, что в олигархических государствах необходимо соблюдать договоры и принятые обязательства, т. к. из-за немногочисленности правящих всегда есть кому держать ответ; при демократии же всегда можно свалить вину на кого-нибудь другого и найти предлог не исполнять того, чего не хочется, а если принятое решение привело к плохим последствиям, можно списать свою вину на то, что все дело испортила кучка врагов демократии (II, 17 sq.). Автор также вскользь замечает, что в демократическом государстве мошеннику гораздо легче остаться незамеченным, чем в олигархическом (II, 20). Трудно сказать определенно, хвалит автор или порицает такое положение вещей; он не говорит об этом ничего плохого и признает, что в такой аморальности есть выгоды для демократии, но открыто похвалить не может, т. к. это было бы слишком явным попранием элементарных нравственных норм.
Затем Псевдоксенофонт еще раз заявляет о своем неодобрении афинского государственного строя, но тут же приступает к его оправданию от обвинений в бюрократической медлительности при рассмотрении частных дел. Оправдание сводится к тому, что при
462
огромном количестве текущих дел государственные органы не в состоянии справиться со всеми сразу (III, 1 sq.). При этом автор не скрывает, что с помощью денег в Афинах можно добиться разрешения любого дела — он не видит в подкупе ничего плохого и говорит, что афиняне добивались бы еще большего, если бы больше было людей, готовых давать деньги (III, 3).
В итоге автор трактата делает три главных вывода: во-первых, он считает, что афиняне, избрав себе свой государственный строй, прекрасно сохраняют демократию, пользуясь всеми перечисленными выше средствами (III, 1); во-вторых, он полагает, что дела в Афинах не могут идти иначе при существующем положении вещей и что в данном государственном строе ничего нельзя поменять без ущерба для демократии, разве что отдельные мелочи (III, 8 sq.); в-третьих, он утверждает, что в Афинах только немногие люди лишены прав несправедливо и что они в силу своей немногочисленности не представляют опасности для власти большинства (III, 12).
Таков этот интереснейший исторический документ об афинской демократии. В нем отразилась одновременно и критика демократии и ее оправдание. Его можно расценивать как отголосок бурной политической полемики, развернувшейся вокруг нового государственного строя. Мы видим, что демократия критиковалась аристократической оппозицией за то, что она отняла власть у «лучших» и дала ее «худшим», а также за отказ от прежних морально-этических норм. В ответ демократия защищалась тем, что доказывала справедливость власти большинства и ставила голый прагматизм выше всех моральных норм. Так здесь столкнулись две идеологии и каждая со своим понятием о справедливости. В основе аристократического понятия о справедливости лежали моральные критерии и гомеровский принцип: «лучшему — лучшая доля», а новая власть справедливостью провозгласила исключительно выгоды для нее самой, независимо от морали.
Еще одним современником и очевидцем Перикловой демократии был Сократ. Он, как и Фукидид, видел лучшие и худшие годы своего города. Поэтому для нас небезынтересно его мнение о демократии. К сожалению, сам он ничего не писал и наиболее достоверные сведения о нем можно почерпнуть лишь из «Воспоминаний» его ученика Ксенофонта. Из этих мемуаров следует, что Сократ не очень много внимания уделял конкретной, реальной политике, а больше говорил о том, какой она должна быть. Понятно, что идеал Сократа резко отличался от действительности и поэтому в его словах время от времени появлялась критика существующих порядков.
463
Так, например, величайшим благом для государства он считал единодушие граждан и повиновение законам, но как раз этого катастрофически не хватало в демократических Афинах. Сократ был вынужден признать, что афинские граждане далеки от единодушия, постоянно грызутся между собой и не желают подчиняться властям (III, 6, 1). Это тесно связано с моральным разложением, особенно среди молодежи, которая стала с презрением относиться ко всем старикам, начиная с отцов (III, 6, 1). Но если нет уважения к старшим, то нечего ждать и уважения к властям. Философ понимал, что истоки безнравственности коренятся в безверии и поэтому особое внимание уделял вопросам богопочитания, настаивая на необходимости веры и уважения святынь. Сократ специально полемизировал с теми, кто отказывался от веры и утверждал, что богам нет дела до людей, — им он успешно доказывал обратное (I, 4, 11—19). Конечно, его собственная вера отличалась от обычной и его представление о божестве было ближе к представлениям Эсхила, чем Гомера. Он сам верил в универсального и всеблагого бога, незримо правящего миром (Xen. Memor., III, 13 sq.). Но для других он на первое место ставил этический аспект религии. Сократ первый сделал на этом акцент и утверждал, что человек должен подходить к божеству с чистой совестью (I, 3, 3). Это был его ответ на усилившийся вокруг религиозный скептицизм, — человек, по его мнению, должен стать на путь добродетели и только тогда он будет услышан божеством и дары его будут приняты. Однако это была не просто реакция Сократа на окружавшую действительность, но альтернативная модель для всего общества. Он считал, что только высоконравственный и профессионально подготовленный человек имеет право заниматься политикой. Только такой политик может принести благо обществу. На самом деле все обстояло не так, как он хотел, и он сам прекрасно видел, что в политику рвутся бесчестные и низкие люди, которые добиваются власти только ради собственного обогащения (Xen. Memor., II, 6, 24; III, 5, 15). Поэтому философ позволял себе иногда высказывать критику и даже предлагал свою модель идеального государственного устройства.
В этой связи показателен разговор Сократа с Периклом Младшим, сыном знаменитого Перикла. Разговор начинается с прославления афинян, которое строится по традиционной схеме: сначала хвалятся мифические предки афинян, затем реальные — те, что отразили персидское нашествие и завоевали городу вечную славу. После этого оба собеседника констатируют, что в настоящий момент Афины находятся в плачевном состоянии, т. к. из-за самонадеянности
464
афиняне перестали заботиться о себе. Тут Перикл задает вопрос: что нужно делать, чтобы вернуть городу былую славу? Сократ отвечает: «разузнать, какие порядки были у предков, и соблюдать их столь же строго», и далее: «...взять за образец тех, кому теперь принадлежит первое место, и завести те же порядки, что у них» (III, 5, 14). Ясно, что в первом случае имеются в виду Афины эпохи «отцов», т. е. тех времен, когда демократии еще и в помине не было, а во втором случае за образец выставляется Спарта. Здесь становится очевидным, что Сократ не просто критиковал демократию, а вообще не принимал ее как форму власти. Его идеалом была аристократическая республика, в которой власть принадлежит лучшим. Он исходил из того, что править в государстве должны люди высоконравственные и компетентные в своем деле, а не кто попало. При демократии же, по его мнению, власть получает именно кто попало, кого изберут голосованием или кто получит се обманом или насилием. Таким образом, Сократ считал неверным сам принцип, на котором основана демократия: руководить государством должны только лучшие и знающие люди, а не случайные проходимцы. Для иллюстрации своей мысли он использовал старую метафору корабля: как на корабле все подчиняются тому, кто умеет управлять судном, так должно быть и в государстве (III, 9, 11). По этому поводу Сократ говорил еще следующее: «Глупо должностных лиц в государстве выбирать посредством бобов112, тогда как никто не хочет иметь выбранного бобами рулевого, плотника, флейтиста или исполняющего другую подобную работу, ошибки в которой приносят гораздо меньше вреда, чем ошибки в государственной деятельности» (I, 2, 9).
Как свидетельствует Ксенофонт, эти речи были использованы затем на суде против Сократа: его обвинили в том, что он якобы возбуждал в молодежи презрение к государственному строю и склонность к насильственным действиям (I, 2, 9). Вполне возможно, что критическое отношение Сократа к демократии было одной из главных причин организации против него судебного процесса, хотя официально ему инкриминировалось прежде всего религиозное нечестие и развращение молодежи. Тезисы обвинения были явно надуманы, но обвинителям ничего другого не оставалось, т. к. официально судить философа за критику демократии или из-за личной вражды к нему было невозможно. Сократ же был опасен тем, что он имел большое влияние на умы многих молодых людей и его критика демократии могла иметь какие-то реальные последствия.
112 Голосование в Афинах производилось при помощи бобов.
465
В Афинах и без того не было недостатка в оппозиции, которая только и мечтала об очередном государственном перевороте и свержении демократии. Тем более, что Сократ не просто критиковал отдельные погрешности существующего строя, а ставил под сомнение саму правомочность его существования. Это уже было опасно для правящего режима и поэтому философ был обречен.
С судьбой Сократа трагически переплелось творчество его известного современника, популярного комедиографа Аристофана. В своей комедии «Облака» он вывел философа в карикатурном свете, изобразив его как лукавого и корыстолюбивого софиста, развращающего молодежь своими безбожными и аморальными учениями. Парадокс состоит в том, что Сократ не был софистом и не имел никакого отношения к тем безнравственным учениям, которые приписал ему Аристофан. Конечно, вряд ли Аристофан хотел специально оклеветать философа, — он просто избрал его мишенью для своей комедии как самого популярного учителя мудрости в Афинах. Очевидно, он совершенно не вникал в его учение, а просто сделал его собирательным образом всех софистов. Аристофан перенес на Сократа все грехи софистов и очень жестоко и остроумно высмеял их как развратителей молодежи, учащих безбожию и обманным речам. В конце комедии автор показал даже участь, которую, по его мнению, заслужили софисты: пострадавший от подлого учения обыватель спалил «мыслильню» Сократа, т. е. дом, где тот учил своей псевдомудрости. Так судьба сыграла злую шутку с философом: будучи невиновным, он принял на себя грехи других. Эта комедия сформировала негативное общественное мнение о Сократе и можно представить, что, когда спустя несколько лет состоялся суд над Сократом и народ голосовал за смертный приговор, он осуждал в лице философа всех софистов и инстинктивно пытался отомстить им за моральное разложение в своем городе.
Что же касается Аристофана, то о нем можно совершенно однозначно сказать, что он был консервативным критиком существующих порядков и поборником старинных нравов. Его политическим идеалом было время «отцов», т. е. поколение, отразившее от Греции персидское нашествие. Неоднократно возвращается Аристофан к этому идеалу в своих комедиях. В «Осах» он выводит на сцену целый хор, который воспевает доблести отцов, их ратные подвиги и добродетели (1060—1120). Заслуги и нравственные качества этого поколения Аристофан в данной комедии противопоставляет дурным нравам молодежи, которая стремится отличиться не доблестью, а красивыми речами и судебными жалобами друг на друга (1091—1098). Хор уверен, что правда на его стороне, и категорично заявляет:
466
...Лучше наша старость,
Чем расчесанные кудри,
Чем распутные манеры
Молодежи нашей.
(1067-1071 / Пер. Н. Корнилова)
Характерно, что Аристофан благоразумно сравнивает не политическое устройство двух эпох, а нравственное состояние двух поколений. Это сравнение говорит само за себя. Поэт сталкивает две противоположности: с одной стороны, он выставляет распущенность и безнравственность молодежи, а с другой стороны — простоту нравов, скромность, строгость и честность старшего поколения. Конфликт старой и новой морали особенно ярко показан в «Облаках»: там Аристофан изображает настоящее состязание между Правдой и Кривдой за обладание истиной. В этом споре Правда защищает мораль старшего поколения, а Кривда представляет софистическую аморальность нового времени. Начинается все с взаимной перебранки, в которой Правда грозит разбить Кривду, а Кривда обещает уничтожить Правду потоком новых мыслей, опровергнуть все и доказать, что «по сути вещей правды нет никакой» (889—903). После короткой драки они решают устроить состязание, чтобы каждый мог высказаться и доказать свою правоту. Кривда предлагает выступить сперва Правде, сопровождая свое предложение следующей репликой:
Пусть начнет старичок!
Очень скоро запнется он в речи своей
И под градом новейших словечек и слов,
Рассуждений, сомнений без сил упадет.
(941-944 / Пер. А. Пиотровского)
В этом эпизоде Аристофану удалось очень точно показать, как софисты с помощью критики подвергали сомнению и опровергали все моральные ценности общества и веру в божественную истину. В ходе словесного состязания Правда в пространной речи описывает воспитание молодежи в старые добрые времена, когда царили простота и скромность нравов, когда младшие уважали старших и когда выросли доблестные марафонские бойцы (961—1082). Кривда называет это все стариковской чушью и с гордостью перечисляет свои собственные заслуги:
...прежде всех придумал я оспаривать законы,
И правду криво толковать, и побеждать неправдой.
467
А бочек с золотом литым не стоит это разве:
Кривой дорогой приводить к победе дело слабых?
(1039-1042 / Пер. А. Пиотровского)
Далее разгорается спор о скромности и Кривда очень быстро доказывает, что скромностью никто не может прославиться, стать сильным или заработать деньги, и что разбогатеть можно только обманом и ложью. Кривда убеждает молодого человека следовать за ней и обещает ему за это все радости жизни. В конце концов Правда оказывается полностью разбита и убегает с поля брани (1060— 1106). Таким образом, Аристофан охарактеризовал свое время как время, в котором поругана Правда и царствует Кривда. Это власть денег, наживы и полного презрения к законам морали.
Конечно, Аристофан не мог не видеть, что затронутые им проблемы тесно связаны с политикой и что аморальность из частной сферы неизбежно переносится и в сферу политическую, где она приносит огромное зло всему государству. Поэтому он критикует и едко высмеивает современные ему порядки. Оружие своей сатиры он направляет прежде всего на лидеров афинской демократии. В одной комедии он открыто провозглашает:
Слежу я за разрухой государственной
И вижу: негодяи правят городом.
(Eccl., 173—176 / Пер. А. Пиотровского)
Причина такой характеристики становится понятна в комедии «Плутос», где в одном месте Аристофан в ярких красках живописует алчность политиков, от бесчинства которых страдает весь город:
Посмотрите теперь на ораторов вы в государстве: пока они бедны,
То с народом своим, с государством они поступают всегда справедливо;
Но лишь станут богаты, казну обобрав, —
справедливость их тотчас исчезнет;
Строят козни они против граждан своих, поступают враждебно с народом.
(567-570 / Пер. В. Холмского)
Коррупция политиков — излюбленная тема для насмешек Аристофана. Один герой получает у него такую характеристику:
О, искусный всегда и со всех взятки брать,
Как пчела сок с цветочков душистых.
(Equit., 426—427 / Пер. К. Полонской)
Иногда поэт позволяет себе смелые выпады, обличающие порочность всей политической системы. В том же «Плутосе» один персо-
468
наж намекает, что народным собранием руководят деньги (171), т. е. имеется в виду подкуп как обычная практика политической жизни. В другом месте Аристофан совершенно ясно говорит, что коррумпированные вожди народа подкупают государственный совет, с помощью которого им удается одурачивать весь народ (Equit., 118 sq.; 698 sqq.).
В комедии «Осы» поэт выступил с беспрецедентными разоблачениями политических лидеров. Там два героя подсчитывают доходы афинского государства и сравнивают их с расходами на «социальные нужды», т. е. на различные выплаты должностным лицам, судьям и т. д. Выясняется, что между доходами государства и социальными расходами на граждан существует огромная разница, которую присваивают себе политики. По этому поводу один из героев восклицает:
Разве ж это не худшее рабство?
Они получили и власть и влиянье
В должностях состоят прихлебатели их, да берут еще плату за службу,
А тебе подадут три обола — и ты просиял...
(682—686 / Пер. Н. Корнилова)
Потрясенный открытием собеседник не может понять, почему ему так мало платят, и получает ответ:
Цель прямая у них, чтобы беден ты был, а зачем это им, объясню я:
Для того, чтобы ты укротителя знал, и когда он тебе только свистнет,
На врагов, на которых натравит тебя, ты подобно собаке кидался.
(705-709 / Пер. Н. Корнилова)
Еще Аристофан любит подтрунивать над официальной идеологией. Как уже сказано, государственная пропаганда показывала преимущество демократии, сравнивая ее с тиранией. Судя по всему, тирания в это время превратилась уже в настоящее путало афинской демократии. В «Осах» Аристофан не преминул посмеяться над этим:
Вам мерещатся тираны, заговорщики во всем,
Обсуждаете ль вы дело важное или пустяк;
Между тем о тирании уж полвека не слыхать.
(488-490 / Пер. Н. Корнилова)
Далее говорится о том, что даже на рынке торговки кричат о тирании, — один герой рассказывает, что, когда он тщательно выбирал рыбу на базаре, его обозвали тираном (493 sqq.). Другой жалуется, что его назвала Гиппием-тираном продажная девка, которую он хотел было «оседлать» (502). Эту тему Аристофан обыгрывает не раз, из чего следует заключить, что официальная пропаганда работала в Афинах весьма успешно.
469
Однако, вершиной политической критики Аристофана стала его комедия «Всадники», в которой подверглась осмеянию уже вся политическая система афинского государства. В ней он в качестве центрального персонажа вывел афинский народ, изобразив его в виде выжившего из ума старика Демоса. Этот образ представляет собой остроумную пародию на официальную пропаганду, изображавшую демос сидящим на троне старцем под покровом богини Демократии (см. прил. 28). Вот как этого старца (афинский народ!) представляет герой Аристофана:
...у нас хозяин Демос
Из Пникса; он брюзга, глухой старик,
Капризен, груб, и до бобов охотник 113...
(44—46 / Пер. К. Полонской)
За Демосом ухаживает слуга-кожевник, который ловко дурачит, обкрадывает старика, угождает ему, а сам опутал все своей властью и держит все под своим контролем (50—89). Он не допускает к Демосу его настоящих слуг, которые задумали свергнуть кожевника, разыскали ему замену в виде колбасника и нашли подходящие оракулы, подтверждавшие право нового кандидата на власть. Слуги уговаривают колбасника взять власть в государстве, обещают ему сказочное богатство и так расписывают открывающиеся перед ним возможности:
Над всеми ими будешь ты владыкой,
Над площадью, и гаванью, и Пниксом.
Совет попрешь ногами, а стратегов
Во всем урежешь. В тюрьмы ты засадишь
Людей, и сам их там стеречь ты будешь,
А в пританее с девками кутить.
(181-185 / Пер. К. Полонской)
Несколькими штрихами Аристофан в гиперболической форме обрисовал политическое состояние в своем городе и показал, какой огромной властью пользуются демагоги — лидеры толпы. Они изображают себя слугами народа, угождают ему подачками, а на самом деле правят всем сами и наживаются за счет государства. Здесь нельзя не вспомнить слова Фукидида о том, что под названием демократии при Перикле скрывалась власть одного человека. Похоже, что и после Перикла положение не изменилось.
113 Намек на голосование бобами.
470
Под видом кожевника Аристофан выводит на сцену преемника Перикла — демагога Клеона, который по профессии был кожевником, но, став лидером народа, получил огромную власть. Поэт пользуется этим случаем, чтобы высмеять низкое социальное происхождение афинских политиков. Он издевается над тем, что у власти в Афинах сменяют друг друга торговцы, кожевники и колбасники (145—166). Один из героев Аристофана обращается к Демосу со следующими словами:
Людей порядочных ты гонишь прочь,
Себя ламповщикам и скорнякам,
Сапожникам, кожевникам даришь.
(764—766 / Пер. К. Полонской)
Верные слуги Демоса пытаются уговорить колбасника взять власть в стране. Когда колбасник начинает отпираться и говорит, что он не сможет возглавить государство из-за своего низкого происхождения, слуги ему отвечают:
Да потому и будешь ты великим,
Что площадью рожден, и подл, и дерзок.
(199-200 / Пер. К. Полонской)
Ошарашенный кандидат не может ничего понять, но его убеждают: «Ничто сегодня, завтра — всем ты будешь!» (175). Еще некоторое время колбасник продолжает колебаться, но слуги его подбадривают:
Все есть в тебе, что нужно демагогу:
И голос мерзкий, и презренный род,
И рыночные связи. Все, что нужно,
Имеешь ты, чтобы править государством.
(238-240 / Пер. К. Полонской)
В конце концов колбасник соглашается стать вождем народа и вступает в борьбу с кожевником. Оба они пытаются теперь склонить старика Демоса на свою сторону, обещая ему щедрые подачки и очерняя соперника. Демос охотно поощряет их состязание и обещает власть тому, кто окажет ему больше услуг. Он теперь становится хозяином положения и хор поет ему следующую песню:
Дивную ты власть имеешь,
Демос, наш владыка ты,
Как тиран, царишь повсюду,
Страх внушаешь на земле.
471
На дурное ты податлив,
Любишь лесть ты и обман,
И на речи чьи угодно
Ты готов разинуть рот,
А рассудок твой, хоть дома,
Все же дома не живет.
(1133-1142 / Пер. К. Полонской)
В ходе борьбы колбасник доказывает Демосу, что кожевник его все время обкрадывал и все тащил себе, оставляя народу лишь самую малость. Кожевник оправдывается тем, что он крал на благо государства (!), но это не помогает. Тогда он пускает в ход последний популярный аргумент:
Но знай, что если мне ты не позволишь
Делами заправлять, придет другой
Мошенник, во сто крат меня опасней.
(963-965 / Пер. К. Полонской)
Однако, ничто не помогает — кожевник разбит и отстранен от власти, но, уходя, он так говорит о своем преемнике:
Я знаю, он не больший вор, чем я,
Но более счастливый.
(1286-1288 / Пер. К. Полонской)
Так может продолжаться бесконечно долго и поэтому Аристофан придумывает сказочно-утопическую концовку комедии: он варит Демоса в котле с кипятком и тот возвращается помолодевшим, чистым и справедливым, т. е. таким, каким он был в эпоху Марафонской битвы (1352—1372). Таким образом, Аристофан недвусмысленно дает понять, какую он видит альтернативу нынешней демократии, — для него это, как и для Сократа, аристократическая республика эпохи Клисфена.
Приведенные примеры наглядно показывают, что аристофановская сатира содержит в себе острую критику современной ему действительности. Поэт высмеивает как личные пороки людей, так и общее положение дел в государстве. От частных пороков и явлений он иногда поднимается до осуждения всей политической системы. Безнравственность, коррупция, низкое происхождение политиков и обман народа образуют у него один общий комплекс, характеризующий порочное состояние дел в государстве. Таким образом, Аристофан на языке комедии представил развернутую критику афинской демократии. Больше всего он осуждал этот государственный строй за то, что при нем государством управляют «кожевники» и «колбасники»,
472
а «лучшие» устранены от дел. Во «Всадниках» он средствами поэтической сатиры призвал вернуться к тому политическому устройству, которое было во времена «отцов», т. е. до Перикла и до демократии. Отсюда видно, что Аристофан считал демократию негодным государственным строем и поэтому предлагал ему свою альтернативу — аристократическую республику образца Греко-персидских войн.
Конечно, данная альтернатива не была изобретением самого Аристофана. О возвращении ко временам «отцов» мечтала вся недовольная аристократия. Одна ее часть ушла в глухую оппозицию, а другая пыталась повлиять на общественное мнение и знакомила публику со своими альтернативными проектами. Позицию этой второй категории выражал младший современник Аристофана — Исократ. Он был профессиональным составителем речей и тоже критиковал афинскую демократию. В основе его критики тоже лежала моральная оценка, которая, как показывают исследования, играла исключительно важную роль во всем его творчестве 114. Он даже пытался убедить сограждан, что им не следует разделять в политике пользу и справедливость и что настоящая и долговременная польза возможна только при соблюдении справедливости и следовании добродетелям (De расе, 31—35; 63; 66). Таким образом, Исократ стремился вернуть в демократическую политику выброшенные из нее аристократические моральные ценности. Он хотел убедить афинян совместить политику с моралью и поэтому его критика существующих порядков носит не наступательный, а увещевательный характер. Он высказывается в форме упреков, а не обвинений.
В своей речи «О мире» Исократ упрекает афинян в том, что они слушают только тех ораторов, которые говорят им в угоду, а других прогоняют с трибуны (4; 5; 10). Получается, что в народном собрании можно говорить только те речи, которые угодны публике, а выступление против общественного мнения, даже если оно и на благо государства, чревато большими неприятностями. В результате Исократ заключает, что в Афинах есть демократия, но нет свободы слова (14). Следующий упрек согражданам состоит в том, что они вручают бразды правления негоднейшим людям, которым никто не стал бы доверять никакого частного дела (13; 52 sq.; 122). Эти люди погрязли в коррупции и приносят большой вред государству. Они «дерзают говорить, будто из-за заботы о государственных делах не могут уделять внимания собственным, а в действительности эти якобы находящиеся у них в пренебрежении дела принесли им такие прибыли, о каких они прежде
114 Исаева В. И. 1994. С. 53 сл., 56.
473
даже богов не смели молить; а народ наш, о котором они, по их словам, пекутся, оказался в таком положении, что никто из граждан не живет легко и радостно, и город полон стенаний» (127). Началом же всех бед Исократ считает афинское морское могущество и установление господства над союзниками (64; 74). Это могущество, по его мнению, привело к невиданной распущенности граждан, которые преисполнились несправедливости, легкомыслия, беззакония и корыстолюбия, а государство в целом стало высокомерным, устремилось к захвату чужого и перестало соблюдать клятвы и договоры (96). Афины превратились в тирана для греков и за это были наказаны разгромом в Пелопоннесской войне (91 sq.). Следовательно, причины всех зол Исократ видит в том, что Афины, став сильными, нарушили разумную меру и слишком вознеслись. Это привело к тяжелым политическим последствиям и к моральному разложению граждан. Поэтому, в качестве выхода из создавшегося положения Исократ предлагал афинянам стать на путь добродетели и справедливости, отказаться от владычества над греками и прекратить воины (63-66; 142).
Спустя некоторое время после написания этой речи Исократ наконец понял, что благосостояние города зависит не столько от внешней политики, сколько от государственного строя и политического состояния, в котором город пребывает. Теперь он полагал, что для решения нравственных и политических проблем необходимо изменение государственного строя, а точнее, возврат к тем порядкам, которые существовали во времена «отцов», т. е. опять в ту самую аристофановскую эпоху Персидских войн. Впрочем, призыв вернуться к «конституции отцов» (πάτριος πολιτεία) во времена Исократа стал уже привычным лозунгом консервативной оппозиции115. Исократ посвятил этой теме специальную речь под названием «Ареопагитик», в которой он в качестве образца представил те времена, когда в Афинах правил Ареопаг. Следовательно, его политический идеал имел вполне конкретные очертания: это афинская конституция до реформы Эфиальта. Исократ советует в этой речи восстановить власть Ареопага и вернуться к той демократии, которую установил Солон и восстановил затем Клисфен. Он считает, что это была самая демократичная и самая полезная городу конституция (16). Вся речь построена по принципу противопоставления прошлого и настоящего. Порочному состоянию современных Афин оратор противопоставляет правильное и справедливое государственное устройство предков. При этом прошлое он представляет в таком идеализированном
115 Ruschenbusch Ε. 1958. S. 400 ff.
474
свете, что все ученые единогласно причисляют эту речь к жанру политической утопии116. Это не столько воспоминания об утраченном прошлом, сколько идеальный образец, помещаемый в прошлое.
Начинается «Ареопагитик» с очередного предупреждения афинянам о том, как порочно и опасно их морское могущество. На этом основании Исократ заключает, что город управляется сейчас так дурно, как никогда и что его полития извращена (12—15). После призыва вернуться к демократии предков оратор переходит к идеализированному описанию тогдашних порядков и критике современного состояния. Он сразу же обвиняет афинскую демократию в том, что она только на словах называется мягкой и направленной на всеобщее благо, а в действительности оказывается совсем не такой (20). При ней граждане распущенность считают демократией, противозакония — свободой, невоздержанность на язык — равенством, а возможность делать все что вздумается — счастьем (21). Политика предков этого не терпела и стремилась так воспитать граждан, чтобы они становились добродетельнее и рассудительнее. Предки отвергали как несправедливое то равенство, которое предусматривает одинаковые почести для хороших и дурных, они предпочитали то равенство, которое оценивает и наказывает каждого по заслугам (21 sq.). Граждане в те времена были приучены к труду и бережливости; они помогали государству из собственных средств, а не зарились на чужое; они не стремились разбогатеть за счет государства и не подсчитывали заранее доходов от общественных обязанностей. Поэтому в те времена «было труднее найти желающих управлять, чем теперь встретить человека, который не стремился бы к этому; они считали заботу об общественных делах служением народу, а не средством получения личных доходов. С самого первого дня вступления в должность они не искали источников дохода, пропущенных предшественниками...» (25 sq.). Предки всегда поступали справедливо и согласно закону, они чтили богов, соблюдали все отечественные обряды и обычаи и отличались своим благочестием (28—30).
Расписывая таким образом добродетели былых времен, Исократ хочет показать, что его современники во всем поступают наоборот и во всем уклонились от добрых нравов. Затем он от политики переходит к проблемам нравственности. Он говорит, что многочисленные и точно составленные законы афинян не способны улучшить жизнь в государстве и являются свидетельством плохой организации города. Законы ставят только преграды преступлениям, а нужно «не
116 Исаева В. И. 1994. С. 79.
475
заполнять текстами законов портики, а хранить справедливость в своей душе: ведь не от народных постановлений, а от нравственных добродетелей зависит хорошее состояние государства» (41). Поэтому, считает Исократ, Ареопаг заботился не столько о средствах наказания для нарушителей, сколько о создании таких условий, при которых граждане не совершали бы ничего достойного наказания (42). Ареопаг наблюдал за жизнью граждан и особенно заботился о воспитании молодежи, чтобы привить ей нравственные добродетели, уважение к старшим и сделать молодых людей хорошими гражданами (37; 48 sq.; 55). Благодаря этому молодежь тогда была хорошо воспитана, в противоположность распущенным молодым людям нынешнего поколения (48—50). Одним словом, Ареопаг следил за нравственностью в государстве и обеспечивал Афинам счастливое и справедливое правление. За порчу такого прекрасного государства Исократ гневно обрушился на то поколение политиков, которое разрушило власть Ареопага, т. е. на Эфиальта и его последователей (50 sq.).
Исократ прекрасно понимал, что своей критикой демократических порядков он мог навлечь на себя беду, тем более что идеализируемый им государственный строй времен Солона и Клисфена на самом деле был далек от идеалов демократии — то была республика аристократов, признающая только равенство «по достоинству», а не «по количеству». Исократ и сам признает, что за такие речи его могут объявить врагом народа со всеми вытекающими последствиями (57). Поэтому, чтобы избежать обвинения в симпатиях к олигархии, вторую часть речи он посвятил своему оправданию, пытаясь представить себя истинным поборником демократии. Тем самым он подтвердил справедливость своего предыдущего утверждения о том, что в Афинах не все в порядке со свободой слова и что говорить открыто может быть опасно. Для самозащиты Исократ прибегнул к риторической уловке: он заявил себя сторонником демократии, только не любой, а хорошо организованной (60; 70). Как образец такой хорошей демократии он и представил времена, когда в городе правил Ареопаг. При этом он, конечно, умолчал, что тогда у власти стояла аристократия, и назвал тогдашний государственный строй демократией (17). Затем, чтобы подтвердить свою приверженность демократии, Исократ, следуя официальной пропагандистской модели, осудил тиранию и расписал ужасы правления тридцати тиранов в Афинах (62—71). Завершил свою речь он еще одним риторическим трюком: он заявил, что афиняне стали хуже своих предков, и призвал сограждан брать с них пример (73 sqq.; 84). Подражать доблестям предков всегда и у всех греков считалось большой добродетелью.
476
Суммируя, можно сказать, что исократовская критика демократии сводится к следующим пунктам. Во-первых, он считает, что государство управляется дурно, потому что к власти приходят все время дурные люди. Причина этого коренится в том, что «добрые» уравнены в правах с «дурными». Во-вторых, при таком государственном устройстве в политике расцветает коррупция и казнокрадство. В-третьих, следствием дурного государственного строя является распущенность молодежи и всеобщее моральное разложение. В-четвертых, в демократических Афинах нет настоящей свободы слова. Очевидно, что уже ко времени Исократа сложился стандартный набор обвинений, предъявляемых к афинской демократии. Большую часть этих обвинений мы уже встречали выше у предшественников Исократа, но он первый свел их в единую систему и сформулировал конкретный вариант политической альтернативы.
Нам осталось еще рассмотреть отношение к демократии двух величайших афинских философов — Платона и Аристотеля. Конечно, дать серьезный анализ их политических теорий в рамках данной работы не представляется возможным и поэтому мы вынуждены ограничиться только общим описанием их позиции по данному вопросу. Начнем с Платона, как со старшего. Он пережил Пелопоннесскую войну и был свидетелем потрясшей его смерти Сократа, он видел правление тридцати тиранов и наблюдал за развитием восстановленной демократии. Все виденное родило в душе Платона глубокую неудовлетворенность существующим положением вещей, и он, находясь под сильным впечатлением от учения Сократа, принялся разрабатывать свою политическую теорию и свой проект идеального государственного устройства. Суть его политической теории в двух словах состоит в том, что целью государства является воспитание в гражданах добродетели (Leg., 630 с — 632 а). Поэтому управлять государством должны наиболее достойные люди — просвещенные в мудрости и совершенные в добродетели философы. Поскольку человек по природе склонен к дурному, государство должно в принудительном порядке наставлять граждан на путь добродетели. Это предполагает строгую власть мудрецов, общественную иерархию, порядок и дисциплину. Таким Платон и видит свое идеальное государство. Поскольку в основу этой модели положены нравственные качества, добродетель и стремление к духовному совершенству, то именно с этих морально-этических позиций Платон подходит и к оценке современной ему демократии в Афинах. Поэтому закономерно, что он дает ей негативную оценку и критикует ее не столько с точки зрения политики, сколько с точки зрения морали.
477
В диалоге «Государство» Платон определяет демократию следующим образом: «Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей» (557 а). Следовательно, философ понимает демократию не как власть народа, а как власть бедных слоев городского населения (см. выше, 1 в). В этом отношении его критика афинской демократии имела уже классический, устоявшийся вид и оперировала стандартным набором аргументов. Платон порицает демократию прежде всего за несправедливое равенство, при котором «дурные» и «добрые» пользуются одинаковыми правами и почестями (Resp., 558 с). Справедливым равенством он признает конечно же, только такое, которое каждому воздает по заслугам (Leg., 757 b—е). Как ученик Сократа Платон вслед за своим учителем обвиняет демократию в том, что она не обращает внимания на профессиональную пригодность людей, претендующих на занятие государственных должностей (Resp., 558 с). Он негодует по поводу того, что в Афинах любой торговец, плотник или сапожник может заниматься политикой, не имея для этого ни соответствующих знании, ни моральных качеств (Protag., 319 d). Демократических правителей он называет оравой кентавров и сатиров117, которых необходимо устранить от управления государством (Polit., 363 d). По отношению к ним философ не скупится на резкие выражения и называет их сборищем, шарлатанами, химерами и величайшими софистами (Polit., 291 е; 303 с). Так же как Исократ, Платон отмечает и отсутствие реальной свободы слова в Афинах и невозможность говорить иначе, чем то, что угодно толпе и ее вожакам (Resp., 564 d). Наконец, он так же как и другие полагал, что у афинян был хороший государственный строй до демократии, т. е. во время Персидских войн (Leg., 698 b).
Как видим, в этих рассуждениях философ был неоригинален и повторял ставшие уже общими положения оппозиции. Индивидуальность и своеобразие Платона раскрываются, когда он начинает го-
117 Сравнение с кентаврами и сатирами красноречиво само по себе: и те и другие олицетворяют диких «детей природы», живущих исключительно ради удовлетворения своих животных потребностей. Кентавры известны хитростью и коварством, а сатиры — своей ненасытной тягой к вину и женщинам. Сравнив с ними афинских политиков, Платон хотел подчеркнуть их аморальность и животный характер их устремлений, направленных исключительно на удовлетворение телесных потребностей.
478
ворить о нравственных аспектах демократии. Его исходная позиция состоит в том, что он различает путь порока и путь добродетели. Путь добродетели означает у него борьбу со страстями и необузданными удовольствиями (Leg., 633 с — 634 d), а путь порока, наоборот, состоит в потакании страстям и вожделениям (Leg., 832 d). Большинство людей, по Платону, идут путем порока, уподобляются животным и думают только о том, как бы набить брюхо и получить удовольствие. Ради этого они стремятся всеми способами разбогатеть и делают это нечестно и постыдно (Leg., 831 d; 870 а—b). В результате хорошие люди становятся плохими: купцами, корабельщиками, разбойниками (Leg., 832 е). Показательно, что купцы и разбойники оказались здесь в одном смысловом ряду, т. к. целью и тех и других является нажива, а наживу Платон считает матерью пороков и главным социальным злом, которое он хотел бы изгнать из своего идеального государства (Leg., 741 е). Поэтому он полагает, что соседство с морем оказывает пагубное воздействие на государство, — море способствует торговле, а это значит, что страна наполняется стремлением к наживе и порокам (Leg., 704—705; Gorg., 518 е). Следовательно, начало всех бед Платон видит в превращении Афин в морскую державу: по его словам, Фемистокл, Кимон и Перикл своей морской политикой сделали город не великим, а превратили его в гнойную опухоль (Gorg., 519 а).
Демократия в Афинах началась с морского владычества, что для Платона было равнозначно вступлению государства на путь порока. Он пишет, что переход к демократии происходит тогда, когда люди отведают яда всевозможных наслаждений (Resp., 559 d). Поэтому демократия презирает все то, что он считает самым важным для государства, т. е. путь добродетели (Resp., 558 b). Вследствие этого при данном государственном строе в городе быстро распространяются тягчайшие пороки: презрение к святыням и безверие (Leg., 881 а—d), распущенность и дерзость молодежи (Leg., 884), непочтение детей к родителям (Leg., 881 d; 928 d), корыстолюбие, обман, ложь, коварство (Leg., 831 d; 916 е; 917 а). Таким образом, моральную деградацию Платон считает результатом дурного государственного строя, т. е. демократии. Этот тезис он широко развернул в своем фундаментальнейшем диалоге «Государство», точнее в том разделе, где он, сравнивая различные формы существующих политических форм, говорит о демократии.
Упадок нравственности при демократии Платон представляет следующим образом: сперва в таком государстве появляется полная свобода и возможность делать, что хочешь, так что люди там
479
становятся очень разными и каждый устраивает жизнь по своему вкусу (Resp., 557 b—с). При этом вовсе не обязательно делать то, что не хочешь, т. е. управлять, воевать и т. д. (557 d). Понятно, что в душах юношей там поселяются наглость, разнузданность и распутство, которых называют благозвучными именами: наглость — просвещенностью, разнузданность — свободой, распутство — великолепием, бесстыдство — мужеством. В результате человек там переходит к развязному потаканию вожделениям (560 е).
Главной ценностью в таком обществе является свобода: «В демократическом государстве только и слышишь, как свобода прекрасна, и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто свободен по своей природе» (562 с). Когда в этом государстве к власти приходят дурные виночерпии, «государство это сверх меры опьяняется свободой в неразбавленном виде, а своих должностных лиц карает, если те недостаточно снисходительны и не предоставляют всем полной свободы, и обвиняет их в мерзком олигархическом уклоне» (Resp., 562 d). В таком государстве правители становятся похожими на подвластных, а подвластные на правителей (562 d—е). Свобода приводит к всеобщему неповиновению, так что под предлогом свободы даже дети перестают почитать и бояться родителей, а родители начинают страшиться своих детей (563 а). «При таком порядке вещей учитель боится школьников и заискивает перед ними, а школьники ни во что не ставят своих учителей и наставников. Вообще молодые начинают подражать взрослым и состязаться с ними в рассуждениях и делах, а старшие, приспособляясь к молодым и подражая им, то и дело острят и балагурят, чтобы не казаться неприятными и властными» (563 b). При демократии переселенцы уравниваются в правах с гражданами (563 а), а между мужчинами и женщинами устанавливается равноправие и свобода (563 в). В результате люди доходят до того, что «...все принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопустимое. А кончат они... тем, что перестанут считаться даже с законами, — писаными или неписаными, — чтобы уже вообще ни у кого ни в чем не было над ними власти» (563 а). В конце концов, заключает Платон, чрезмерная свобода и для человека, и для государства обращается в чрезмерное рабство и в конечном итоге из демократии возникает тирания (564 а).
Можно было бы и дальше приводить цитаты, но уже из сказанного хорошо видно, как Платон оценивал демократию и за что он ее порицал. Его критика имеет два аспекта: политический и нравственный. Политическая критика Платона вполне традиционна — он обвиняет демократию в несправедливом уравнении «добрых» и «дур-
480
ных», а также в допущении к власти непригодных для этого людей. Однако, главное внимание философ сосредотачивает на морально-этической критике: он прямо обвиняет демократию в моральном разложении общества, в презрении к добродетели и следовании путем порока. Целью государства для Платона является добродетель и поэтому он от критики переходит к созданию собственного проекта идеального государства, которое отвечало бы этой цели.
Ученик Платона Аристотель как философ был почти прямой противоположностью своему учителю. Он посвятил специальный труд теоретическим вопросам государства, но рассматривал их с принципиально иных позиций, чем Платон. Он тоже создавал проект образцового государства, но не как утопическую мечту, а как идеальную конституцию, в которой совместились бы лучшие черты всех известных ему законодательств. При создании этого проекта Аристотеля совершенно не интересовали проблемы нравственности и добродетели. Хотя он и говорил иногда о необходимости воспитания добродетели у граждан (Pol., 1332 а 34 sq.; 1337 а 10), эта тема у него стояла все же на последнем месте. Он не философствовал о пороках и добродетелях, о нравственных задачах государства, о том, чтобы направить человека на путь добра и т. д. — в его идеальном государстве воспитание было необходимо только для того, чтобы привести образ мыслей граждан в соответствие с государственным строем (Pol., 1333 b 38; 1337 а 23 sq.). Воспитанию отводилась функция обслуживания государственной идеологии и не более того. Вообще, Аристотель рассматривал государство не с позиций морали, а с позиций голого прагматизма и все свое внимание уделял проблемам политической организации исходя из нее самой и ради нее самой. Государство было для него ценностью само по себе, а не ради какой-либо нравственной цели. Поэтому свою «Политику» он посвятил поиску наилучших форм политической организации и целиком погрузился в рассмотрение и сравнение избирательных прав, должностей и отдельных законов.
Политические взгляды Аристотеля отличались одновременно новаторством и консерватизмом. Так, например, если все его предшественники восхищались обычаями предков и призывали вернуться к их правильному и счастливому образу жизни, то он заявлял, что следовать обычаям древних людей было бы безрассудно (Pol., 1269 а 4 10). Если Платон считал, что законы происходят свыше, а законы Ликурга в Спарте называл установлениями самого Аполлона (Leg., 632 d), то для Аристотеля законы были только продуктом человеческого разума и не более того (1333 b 23). Он вообще исключал из политики всякий иррациональный момент. Также в пику своему учителю
481
он утверждал, что близость моря для государства и полезна и нужна (1327 а 18 sq.). Однако в то же время Аристотель разделял основные политические стереотипы своих предшественников. Во-первых, он принимал древнюю аристократическую модель равенства «по достоинству» и говорил о необходимости распределять почет и блага в государстве по достоинству и заслугам, а не поровну (1280 а 9; 1301 b 30—36; 1302 b 15). Во-вторых, он признавал гражданами только тех, кто имеет тяжелое вооружение (1265 b 26; 1279 b 1) и отказывал ремесленникам и торговцам в праве быть гражданами (1329 а 20).
О происхождении демократии Аристотель пишет, что она возникает там, где количество неимущих преобладает над количеством благородных и богатых (1296 b 25). Следовательно, Аристотель определяет демократию как такой государственный строй, при котором верховной властью владеют свободнорожденные и неимущие граждане (1290 b 19). Таким образом, философ ясно говорит, что демократия — это власть бедного большинства над богатым меньшинством. Формально суть демократии Аристотель определяет двумя признаками: властью большинства и свободой (1310 а 26). Правда, он тут же отмечает, что свободу при демократии часто неверно понимают как возможность делать всякому что угодно (1310 а 30 sq.). Вообще, следует отметить, что трактовка демократии у Аристотеля весьма запутанна и неоднозначна. С одной стороны, он ее за что-то критикует, а с другой стороны, он всецело принимает демократическую идею и пытается очистить демократию от недостатков. Он исходит из того, что власть должна находиться в руках большинства, и утверждает, что механическое большинство худших людей превосходит малое количество лучших, т. е. опять-таки в пику своему учителю он отдает предпочтение количеству перед качеством (1281 а 40; 1283 а 49; 1286 а 38). К власти большинства Аристотель присоединяет справедливое равенство, т. е. распределение по достоинству, и на этом основании создает свою идеальную демократию. Эту демократию он называет политией и определяет ее как власть большинства для общей пользы или как смешение демократии и олигархии (1279 а 35 sq.; 1293 b 34). Опираясь на свою модель, он различает пять видов демократии (1291 b 30 — 1292 а 6 sq.). Его идеалу соответствует древнейший, умеренный вид демократии, который он относит ко временам Солона и Клисфена (1292 b 26 — 1293 sq.; 2; 1318 b 6). Этот вид демократии характеризуется тем, что при нем соблюдается равенство для всех и нет преимуществ ни для бедных, ни для богатых (1291 b 30 sq.). Наихудшим видом демократии, по Аристотелю, является последний, пятый тип, при котором решающее
482
значение имеют постановления народного собрания, а не законы (1292 а 6). Получается забавный парадокс: Аристотель в пику своему учителю отстаивает и защищает демократию, говорит, что следовать обычаям предков глупо, и в то же самое время наилучшей демократией называет государственный строй, который был у предков и который на самом деле не был никакой демократией! Реальную же демократию, современником которой он был, Аристотель сам же относит к пятому, наихудшему ее виду (1298 b 15). Возникает впечатление, что философ запутался в своих рассуждениях и не заметил явного противоречия. Он пытался совместить две противоположные позиции: во-первых, демократическую, антиплатоновскую позицию и, во-вторых, позицию ученого, ведущего объективное исследование. Естественно, что эти позиции не совпадали и вызывали противоречия. Поэтому идеальная политическая модель Аристотеля также построена на неразрешимом противоречии: совместить в полисных условиях принцип власти большинства с принципом равенства «по достоинству» было просто невозможно. Это были взаимоисключающие принципы, несовместимые на практике. Таким образом, политическая теория Аристотеля тоже оказалась утопией.
Рассуждая о реальной, современной ему демократии, Аристотель позволяет себе критику, но поскольку он убежден в необходимости власти большинства, то критикует ее не как систему, а только за отдельные негативные явления. Для него реальная афинская демократия есть отклонение от его идеальной политии (1279 b 3; 1289 а 26). Он ставит ей в вину две большие ошибки. Первая состоит в том, что при реальной демократии правит не закон, а народ, власть которого ставится превыше всего (1298 b 15). Народом управляют демагоги и такая демократия на самом деле является тиранией (1292 а 16 sq.; 26 sqq.; 1312 b 5). В правильном государстве, т. е. в политии, над всем должен властвовать закон (1292 а 32 sq.).
Второй ошибкой реальной демократии Аристотель считает неверную концепцию равенства, т. е. равенство «по количеству» вместо равенства «по достоинству». По его мнению, демократия возникла из ошибочного мнения, что равенство в каком-нибудь одном отношении влечет за собой равенство вообще. Так из того, что люди все свободнорожденные, делают вывод о равенстве людей вообще и поэтому в демократическом государстве все притязают на полное равноправие (1301 а 2). Такое равенство Аристотель считает несправедливым (1302 b 15). Он упрекает демократию также в неверном истолковании свободы, которое приводит к нежеланию подчиняться кому-либо (1310 а 30 sq.; 1317 b 15). Не мог он обойти стороной и
483
типичное обвинение демократии в алчности и корыстолюбии, — он неоднократно осуждает демагогов за то, что они разоряют богатых людей (1304 b 20 sq.; 1308 b 15-1310 а 5; 1320 а 5), и считает, что самое главное для государства — это устроить дело так, чтобы должностные лица не могли наживаться (1308 b 32).
Таким образом, Аристотель тоже критиковал афинскую демократию, но не с позиций морали, как большинство критиков до него, и не как систему, а за отдельные погрешности в политической организации. В то же время он целиком разделял демократическую идею власти большинства и пытался ее соединить с принципом справедливого равенства «по достоинству». В результате получился утопический проект идеальной политии, в которой должны были быть смешаны элементы демократии и олигархии. Показательно, что в конечном итоге идеал Аристотеля тоже оказался помещен в прошлое. Он пытался совместить несовместимое и в результате создал свой абстрактный, вымученный и нереальный проект идеального государства. Будучи одновременно новатором и консерватором, он принимал идею демократии, но мыслил при этом старыми категориями социальной справедливости. Аристотель был последним теоретиком и очевидцем афинской демократии: его ученик Александр положил предел греческой независимости и афинской демократии, своими завоеваниями раздвинул мир и дал начало новой эпохе.
Подготовлено по изданию:
Туманс X.T83 Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла (VIII—V вв. до н. э.) / Вступ. ст., науч. и лит. ред. Э. Д. Фролова. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2002. — 544 с, илл.
ISBN 5-93762-010-0
© Туманс X., 2002
© Издательский Центр«Гуманитарная Академия», 2002